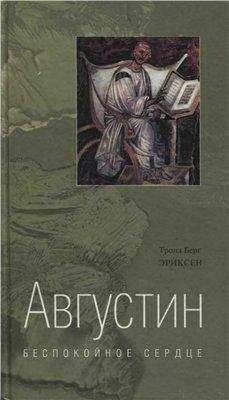Говорил он, несомненно, лучше, чем писал. Речь его отличалась естественной интонацией и прямотой, а подчас и резкостью выражений. Он знал людей и владел их настроением. Он умел завораживать, об этом говорит и Августин: «Там я и задержался; ибо слово его пригвоздило мой рассеянный слух. По правде говоря, мне и нужды не было до смысла его слов, я им пренебрегал; но проникся очарованием его речи» («Исповедь», 5, 13).
Как епископ он был совершенно на своем месте. Это один из самых прекрасных пастырей, каких знала Церковь. Он был епископом в полной мере: наставник, пастырь, лекарь, исповедник, щит справедливости, заступник бедных и угнетенных, наконец, просветитель, — он немало потрудился для обращения германского племени маркоманов. Он просветил верою королеву Фригитилию, обратившуюся к нему. Ему выпало счастье принять в лоно Церкви св. Августина и предопределить его жизненный путь. Такое разнообразие дарований, казалось бы, находится в противоречии с единством приобщения и вдохновения. Но он был из тех редких людей, кто органично и просто сочетает деяние и бытие.
В начале 397 г. на склоне жизни Амвросий составлял толкование на псалом 43. Дойдя до стиха 24, он написал: «Тяжело столь долго влачить тело, уже овеянное мраком смерти. Восстань, что спишь, Господи! Навсегда ли отринешь?» Это были его последние строки. Как человек он весь сказался в этом последнем молитвенном возгласе. Епископское служение он заповедал грядущим христианским векам.
Господь сотворил день, и Господь сотворил ночь, но не ради греха, а ради отдохновения. Вера есть свет негасимый.
ВЕЧЕРНЕЕ ПЕСНОПЕНИЕ
О Боже, сотворивший Порою сумрачной ночи
вселенную затмевается сияние дня,
и небеса; Ты облачил но вера неподвластна мраку,
день в сияние света, и сама озаряет ночь.
ночь наделил сладостью сна.
Неизменно пусть бодрствуют
Даруется отдых усталому телу наши души,
от его повседневных трудов; Остерегаясь греха!
облегченье усталых сердец Вера блюдет наш отдых
и рассеянье тяжких забот. От всех опасностей ночи.
Благодарность Тебе воздадим за Гони искушенья нечистые,
день, Пусть в покое пребудут
Вознесем, по пришествии ночи, наши сердца.
наши молитвы и наши обеты, И ухищренья лукавого
дабы нам не остаться без тишины да не встревожат.
поддержки Твоей.
Исторгаем для Тебя из глубины Вознесем молитвы Христу и Отцу
сердец И Духу, единому в них обоих,
наши прекраснейшие гимны; нераздельная, о всемогущая
ибо Тебя возлюбили чистейшей Троица,
любовью, охрани же тех, кто к Тебе
преклоненные пред величьем прибегает Твоим.
(†420)
Художники Ван Эйк и Дюрер изобразили Иеронима склоненным над рукописью. Он сидит за пюпитром, подобно евангелистам из каролингских молитвенников. Сонный лев, как кот, вытянулся у стола. Голова Иеронима в сиянии лучей: видимо, на него снизошло вдохновение. Песочные часы, кардинальская шапка и несколько книг довершают картину… На самом деле не всегда было так.
«Я родился христианином, от родителей христиан; с колыбели я был вскормлен молоком католическим». Но и это трогательное исповедание веры не должно нас вводить в заблуждение. До тринадцати лет Иероним оставался единственным и балованным ребенком в богатой семье из Стридона, городка на границе Югославии и Италии. Родители потакали всем его капризам. Они не спешили с крещением сына, пускай «отгуляет свое».
УЧЕНИЕ
Сначала Иероним ходил в местную школу. Он был одаренным, но трудным учеником: живое воображение, цепкая память, характер восприимчивый, пылкий, порывистый. Вскоре его перевели в великолепную миланскую, а затем и в римскую школу, где он учился грамматике, риторике и философии. Рим произвел неизгладимое впечатление на уроженца далекой Далматии: «О могучий город, владыка мира, восхваленный апостолом!»
Он приобщился столичному красноречию, жадно читал латинских классиков, которые определили его слог и дух. Впоследствии он потому и нападал на Цицерона, чтобы убедить самого себя, что освободился от его влияния. Он с осторожностью отодвигался от учителей, которые его сформировали. Однако в отличие от безразличных к языческой древности каппадокийцев с Римом и римской литературой его связывали достаточно крепкие узы.
Упорный труд не мешал юному Иерониму развлекаться. Вероятно, он отдался развлечениям со всей пылкостью своей натуры. Легкие, бездумные связи следовали одна за другой — воспоминания о них потом загонят его в Халкидскую пустынь. Другое дело — дружеские отношения. Он сблизился с Вонотием и Руфином. Вместе с друзьями побывал в катакомбах. Рим ведь тоже был городом мучеников.
Иероним был слишком взыскателен, чтобы удовлетвориться малым. Вместе с Вонотием он записался в начале Великого поста 366 г. в перечень оглашенных и в пасхальную ночь принял крещение от папы Либерия. Предстояла новая жизнь. Иероним отбывает в Галлию и останавливается в Трире, возобновляет свои занятия, но в то же время впервые ощущает притягательность монашеской жизни. Приходит решение предаться созерцанию и подвижничеству: «Настало время заняться богоугодными делами». В семье отнеслись к его решению скептически, но он вместе с друзьями все же принял послушание у Хромациуса. Изучение Писания стояло у них на первом месте. Но это религиозное благолепие быстро кончилось.
«Налетел шквал», как он сам рассказывал, и братство распалось. Упорство Иеронима не было сломлено испытанием: оно его даже не обескуражило. Недолго думая, он отправляется на Восток, где монастыри процветали в пустынях. Осыпая хулами своих гонителей, он захватил с собой библиотеку и заметки, накопленные в Риме. Пришлось порвать с семьей, это далось ему нелегко; впоследствии он писал Гелиодору: «Разрывы, которые тебя страшат, я в свое время претерпел».
НА ВОСТОКЕ
Во время пребывания в Антиохии Иероним погрузился в изучение Библии и углубил свои познания в древнееврейском языке. Из Антиохии он перебрался в Халкидскую пустынь, усеянную монашескими обителями. Он жаждал одиночества, бдений, покаяния и трудов. Но увы, натура и вкусы требовали своего. Дух его был не в ладах с душою, он разрывался между светской литературой и Священным Писанием. «Читал я пророков и говорил себе: о сколь же грубы и дики их речи. И после ночи, проведенной в бдении и молитвах, возвращался я к Виргилию, Цицерону, Платону».
Его посетило отрезвляющее видение, которое он сам живо описал. Было это во время приступа лихорадки: «Восхищен был дух мой и предстал пред Судией. Я ощущал сияние столь ослепительное, что не смел и глаз поднять». Быв спрошен о вероисповедании, «я христианин», ответствовал я. «Ты лжешь, — возразил мне Восседавший на престоле, — не христианин ты, а цицеронианец. Где твое сокровище, там и сердце твое». Сурбаран изобразил эту сцену: Иероним, нагой и согбенный пред Христом Судиею. И ангелы хлещут его растроенными ременными бичами.
Испытания отшельника продолжаются. Пришел черед иным искушениям. Одиночество распаляет воображение. Тело, почти лишенное пищи и сна, пытается взять свое. Его преследуют воспоминания о прелестных римских танцовщицах. «О, сколько раз, находясь в пустыне, на бескрайнем и выжженном просторе, лишенном следа жилищ и служащем пристанищем монахов, я снова мечтою погружался в римские утехи. Я видел себя сплетенным в плясках с юными девами. В лице моем от постов не осталось ни кровинки, но в изможденном теле горело желание, и огнь похоти пожирал немощную, полумертвую плоть. Дни и ночи смешались; опомнившись, я испускал крики. Я непрестанно бил себя в грудь. Мне становилась ужасна и сама моя келья, сообщница моих постыдных мечтаний. Гневаясь и негодуя на себя, я все дальше углублялся в пустыню».
Спасителем оказался умственный труд. Он с головой ушел в занятия, изучал древнееврейский, «язык гортанный и задышливый», взяв в наставники образованного иудея. Такая аскеза, как выяснилось, куда более действенна, нежели отшельническая праздность. Он выкроил время, чтобы составить жизнеописание, вернее сказать, панегирик отшельнику Павлу Фивейскому. «Его заношенная туника отрадней для меня, чем царственный пурпур». Подобные жития служили душеполезным чтением для тогдашнего христианского народа, жадного до всяческих чудес.
Примерно в то же время он составил Хронику, для которой частью перевел, а частью переписал труд историка Евсевия. Книга эта стала основополагающей для всех изысканий в области первых веков христианства. Иероним охотно подмешивал к истории личные воспоминания, а иной раз и сводил личные счеты. Так, описав отбытие в Иерусалим Мелании Старшей и воздав хвалу ее добродетелям, он позднее разошелся с нею в оценке наследия Оригена и все хвалы вычеркнул.
Споры об арианстве и отголоски антиохийского раскола встревожили покой пустыни и породили раздоры между монахами. Отшельники разбились на враждующие группы: «Покрытые пеплом и мешковиной, мы отлучали епископов», — иронизировал Иероним. Наконец, потеряв всякое терпение, наш герой расстался с этими немытыми, невежественными и бранчливыми монахами, собрал пожитки и вернулся в Антиохию.