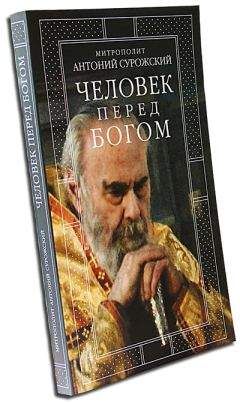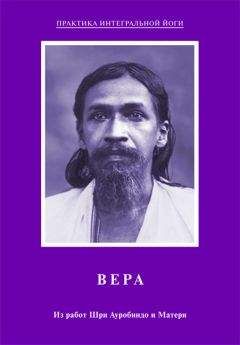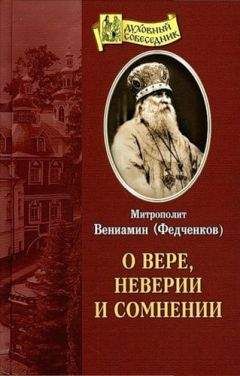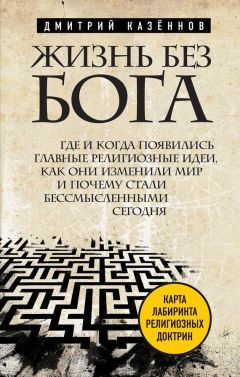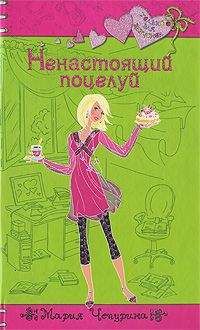Есть другие места, и если мы вполне честны, мы скажем: нет, на это я не пойду… У меня есть честная прихожанка. Читал я лекцию о заповедях Блаженства, после которой она подошла ко мне и сказала: Владыко, если вы это называете блаженством, пусть оно вам и будет. Голодным быть, холодным быть, покинутым быть, гонимым быть — нет… Так вот, если у вас есть хоть четвертая часть ее честности, вы отвергнете три четверти Евангелия — и я еще не пессимист.
Возьмем пример: Христос открывает нам Бога уязвимого, беззащитного, побежденного и потому презренного. Иметь такого Бога уже достаточно неприятно! Но когда Он еще говорит нам: Я дал вам пример, следуйте ему, — тогда действительно можно сказать "нет". Ну так и скажите. Но мы не целиком черные, и если вы честны в обе стороны, то есть если вы не защищаетесь от притягательности Евангелия, из-за того, что она для вас опасна, то вы увидите, что есть одно-два места в Евангелии, три фразы, от которых озаряется ум, освещается, загорается сердце, воля собирается в желании следовать слову, потому что оно так прекрасно, так истинно, так совершенно и так полно совпадает с тем, что в вас есть самого глубокого; самое тело ваше устремляется по этому пути. Отметьте эти места; как бы редки они ни были, это те места, где вы уже совпадаете со Христом, где в покрытом записями портрете вы открыли руку мастера, островок тонов первообраза. И помните тогда одно: в этой фразе или в этом евангельском образе одновременно явлены и Христос, и вы; и как только вы сделаете это открытие, вам уже нет надобности бороться со своей природой, чтобы как можно более приблизиться к евангельскому духу; достаточно следовать своей природе, но природе подлинной, не ложному, привнесенному образу, а тем чертам, что написаны рукой мастера. Дело не в том, чтобы поступать наперекор всему, что вам хочется сделать (христиане часто называют это "быть добродетельным": чем больше я хочу это сделать, тем добродетельнее этого не делать), а в том, чтобы сказать: вот один, два пункта, в которых я нашел, что есть во мне самого подлинного. Я хочу быть самим собой самым истинным образом… Сделайте так, и когда вы это сделаете внимательно, с радостью быть и все больше становиться самим собой, то увидите, как появляется другой просвет, место сходное, родственное, так сказать, нескольким поразившим вас словам. Постепенно портрет расчищается, появляется одна черточка, другое красочное пятно… И так вас захватывает все Евангелие, но не как оккупационные войска, которые завоевывают вас насилием, а освобождающим вас действием, в результате которого вы все больше становитесь самим собой. И вы открываете, что быть самим собой значит быть по образу Того, Кто пожелал быть по нашему образу, чтобы мы были спасены и изменились.
Итак, вот два различные, но коррелятивные пути самопознания: познания "я" — индивидуума, который себя утверждает, себя противополагает, который отвергает и отрицает другого; того "я", которое не хочет видеть всего себя таким, как оно есть, потому что стыдится и боится своего безобразия; того "я", которое никогда не хочет быть реальным, потому что быть реальным значит стать перед судом Бога и людей; того "я", которое не хочет слышать, что говорят о нем люди, тем более — что говорит о нем Бог, слово Божие. И с другой стороны — личность, находящая свое удовлетворение, свою полноту и свою радость только в раскрытии своего первообраза, совершенного образа того, что она есть, образа, который освобождается, расцветает, открывается — то есть все больше обнаруживается — и тем самым все больше уничтожает индивидуум, пока от него уже не останется ничего противополагающегося, ничего самоутверждающегося, а останется только личность — ипостась, которая есть отношение. Личность — которая всегда была только состоянием любви того, кто любит, и того, кто любим — оказывается высвобожденной из плена индивидуума и вновь входит в ту гармонию, которая есть Божественная Любовь, всех содержащая и раскрывающаяся в каждом из нас, как в светах вторых, излучающих вокруг свет Божий.
Говорить о смирении всегда трудно, потому что, в общем, по-настоящему не знает смирения тот, кто не смирился. Но кое-что все же можно сказать, чтобы найти какое-то направление.
Когда мы думаем о смирении, мы, большей частью, думаем о поведении человека, который, когда его хвалят или говорят о нем что-то хорошее, старается доказать, что это не так; или о поведении человека, который, когда ему приходит мысль, что он сказал что-нибудь хорошее или сделал правильное, старается отвести эту мысль из страха возгордиться. Оба подхода мне кажутся неправильными не только по отношению к самому себе, но и по отношению к Богу: считать, что раз я это сделал или сказал, это не может быть хорошо, или что признание в себе доброго может повести к гордыне, — ошибочно. Надо просто перестроиться: если Бог дал мне сказать что-нибудь истинное, доброе, правильное или сделать что-нибудь достойное и Его, и меня как человека, я должен научиться благодарить Его за это. Не приписывать себе в заслугу — да; но не отрицать самой вещи и переключиться с тщеславия или гордыни на изумленное, умиленное благодарение.
Это первое, что надо сказать о смирении, потому что это первая задача, которая стоит перед каждым из нас. Ложное смирение — одна из самых разрушительных вещей; оно ведет к отрицанию в себе того добра, которое есть, и это просто несправедливо по отношению к Богу. Господь нам дает и ум, и сердце, и волю добрую, и обстоятельства, и людей, которым можно сделать добро; и надо его делать с сознанием, что это — добро, но что это не наше, а Божие, что нам это дано.
Второе: смирению противопоставляются, большей частью, гордыня или тщеславие. Между той и другим — очень большое различие.
По-настоящему гордый человек — это человек, который не признает над собой ни Божьего, ни человеческого суда, который сам себе закон. В жизни аввы Дорофея есть рассказ, как он посетил один монастырь и ему сказали об очень молодом монахе как об образце смирения: он никогда не гневался, никогда не возмущался, никогда не возражал, когда его порочили или унижали. И Дорофей, который был опытен в духовной жизни, не поверил; он вызвал этого монаха и спросил: «Каким это образом, при всей твоей молодости, ты достиг такого совершенства, что когда тебя порочат, унижают, оскорбляют, ты никогда не возмущаешься?». И этот молодой монах ответил: «Что мне возмущаться, когда какие-то псы на меня лают?». Его духовное состояние было не смирением и не примиренностью, а совершенной свободой от человеческого не только осуждения, но и просто суждения, мнения; что о нем говорили люди — его не касалось, он сам себе был судьей, он был мерилом всего для себя. И если исходить из этого, то, разумеется, Божий суд также отстраняется, остается только собственный суд. Это состояние предельного, замкнутого одиночества; это состояние, когда у человека больше нет Бога и нет суда вне его самого.
Очень сильно отличается от этого тщеславие. Тщеславие заключается во всецелой зависимости от мнения или суда людского, но не от суда Божия. Тщеславный человек ищет похвалы, ищет одобрения, причем самое унизительное то, что он ищет похвалы и одобрения от таких людей, мнения которых он даже не уважает, — лишь бы они его хвалили. И в момент, когда кто-то начинает его хвалить или просто одобрять, хвалящий вдруг приобретает в его глазах всякие качества ума и сердца, делается в его глазах умным и справедливым судьей. И есть в этом другая сторона: если мы начинаем надеяться, что кто-нибудь нас похвалит, то мы ищем похвалы не за самое высокое, не за самое благородное, не за то, что достойно и Бога, и нас, а за что попало. И в конечном итоге мы мельчаем, потому что ищем одобрения за что угодно, лишь бы нас одобрили; одобряют же нас безрассудные люди, которые не имеют строгого Божьего критерия для суда, суждения, и одобряют они нас, конечно, по пустякам. И получается, что тщеславный человек зависит всецело от людского мнения и одобрения; для него катастрофа, когда о нем судят строго или как-то его отрицают; и вдобавок, лишь бы только заслужить похвалу, он довольствуется очень малым, самыми ничтожными вещами.
Смирение — нечто совершенно другое. Это не просто отсутствие тщеславия: отсутствие тщеславия является как бы производным, вторичным плодом. Это также и не просто отсутствие гордыни, то есть интегральной, абсолютной самозамкнутости — хотя эта замкнутость и разбивается смирением.
Смирение, если говорить о русском слове, начинается с момента, когда мы вступаем в состояние внутреннего мира: мира с Богом, мира с совестью и мира с теми людьми, чей суд отображает Божий суд; это примиренность. Одновременно, это примиренность со всеми обстоятельствами жизни, состояние человека, который все, что ни случается, принимает от руки Божией. Это не значит, что случающееся является положительной волей Божией; но что бы ни случилось, человек видит свое место в этой ситуации как посланника Божия.