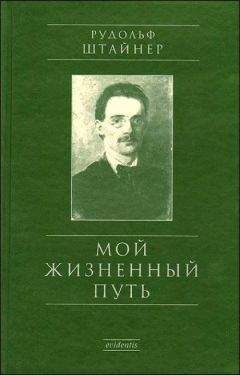Я не мог составить себе никакого понятия об этой ложе, ибо исходя из того, как относились к ней окружавшие меня люди, я должен был отказаться от всяких расспросов; кроме того, на меня производили отталкивающее впечатление бестактные речи директора спичечной фабрики относительно церкви.
Однажды в воскресенье священник со свойственной ему энергией прочитал проповедь, в которой разъяснял значение истинной нравственности для человеческой жизни, причем, образы врагов истины были взяты из ложи. Свою речь он завершил такими словами: "Возлюбленные христиане, запомните же, кто есть враг истины: это масон и еврей!". Крестьяне, конечно, поняли, что речь идет о директоре фабрики и торговце платьем. Мне же особенно понравилось то, с какой энергией были произнесены эти слова.
Священнику я также обязан многим благодаря одному сильному впечатлению, чрезвычайно важному для моей дальнейшей духовной ориентации. Как-то раз он пришел в школу, собрал наиболее "зрелых" учеников, к которым причислил и меня, в маленькой учительской комнате, развернул сделанный им собственноручно рисунок и объяснил нам по нему Коперникову систему мира. При этом он очень убедительно говорил о движении Земли вокруг Солнца, о ее вращении вокруг собственной оси, о наклонном положении земной оси, о лете, зиме, а также о земных поясах. Я был совершенно увлечен сказанным, целыми днями рисовал эту систему; затем я получил от священника подробное разъяснение солнечных и лунных затмений и направил всю свою любознательность — как тогда, так и в дальнейшем — на этот предмет.
Мне было около десяти лет, и я писал еще с орфографическими ошибками.
Глубокое значение для моего детства имела близость церкви и окружающего ее кладбища. Все школьные события разыгрывались в связи с ними. Это было вызвано не столько царившими тогда в этой местности социальными и политическими отношениями, но прежде всего тем, что священник наш был незаурядной личностью. Помощник учителя был одновременно церковным органистом и ризничим; он же помогал священнику во время богослужения. Мы, школьники, несли обязанности церковных служек и певчих во время месс, заупокойных служб и погребений. Торжественность латинского языка и религиозного культа были для меня тем, в чем любила жить моя детская душа. Благодаря тому, что до моего десятилетнего возраста я принимал активное участие в церковной службе, я очень часто находился в обществе столь уважаемого мной священника.
В родительском доме я не находил никакого сочувствия моим отношениям с церковью. Отец мой не принимал в этом никакого участия. Он был тогда "свободомыслящим"; никогда не ходил в церковь, с которой я так сросся, и это несмотря на то, что в свои детские и юношеские годы он был весьма предан церкви и служил ей. Изменился он лишь тогда, когда уже под старость переехал, выслужив пенсию, в Горн, на свою родину. Здесь он вновь стал "благочестивым человеком". Но к этому времени я потерял уже всякую связь с родительским домом.
С нойдорфльского периода моего детства мне прочно запало в душу, что созерцание культового обряда, сопровождаемого торжественным музыкальным приношением, приводит к тому, что — как бы под сильным внушением — перед человеком встают все загадочные вопросы бытия. Уроки Библии и катехизиса гораздо меньше влияли на мой душевный мир, чем то, что совершал священник как служитель культа, как посредник между чувственным и сверхчувственным мирами. С самого начала все это было для меня не просто формой, но глубочайшим переживанием, и тем большим, что дома со всеми этими переживаниями я был чужим. То, чем жила моя душа во время богослужения, не покидало меня и дома. Я не принимал участия в домашней жизни. Я замечал ее; но я все время мыслил, чувствовал и воспринимал в этом другом мире. Однако здесь следует непременно отметить, что я вовсе не был фантазером, но вполне приспособился ко всем жизненным, практическим обязанностям, как к чему-то само собой разумеющемуся.
Совершенной противоположностью моему миру являлась склонность моего отца к политике. На службе его сменял чиновник, который жил на другой находившейся в его ведении станции. В Нойдорфле он появлялся каждые два или три дня. В свободные от работы вечерние часы он и мой отец беседовали о политике. Это происходило неподалеку от станции, за столом, который стоял под двумя большими чудесными липами. Здесь собиралась вся наша семья вместе с гостем. Мать моя вязала крючком или спицами, сестра и брат резвились, я же сидел у стола и прислушивался к бесконечным политическим разговорам мужчин. Мое участие касалось не содержания их беседы, а скорее форм, которые она принимала. Они никогда не соглашались друг с другом; если один говорил "да", то другой отвечал "нет". Все это происходило под знаком эмоциональности, даже страстности, но также и добродушия, составлявшего основную черту существа моего отца.
В маленьком кружке, который часто собирался и в котором принимала участие "знать" местечка, иногда появлялся врач из Винер-Нойштадта[11]. Он лечил многих больных в селе, в котором тогда не было врача. Путь из Винер-Нойштадта в Нойдорфль он проделывал пешком и после посещения больных заходил на станцию, поджидая обратного поезда. Как в моем родительском доме, так и среди большинства людей, знавших этого человека, он слыл за чудака. Он не очень любил говорить о своей профессии, зато охотно рассказывал о немецкой литературе. Именно от него я впервые услышал о Лессинге, Гете, Шиллере. В моем родительском доме я никогда о них не слышал. Их просто не знали. В школе тоже не было о них речи. Здесь на первом плане была история Венгрии. Ни священник, ни учитель не проявляли интереса к великим немецким писателям. Врач этот обогатил мой кругозор совершенно новым миром. Он очень охотно занимался мной и часто, немного отдохнув под липами, уводил меня с собой. Разгуливая взад и вперед по станционной площадке, он беседовал со мной — не поучительно, а с энтузиазмом — о немецкой литературе, развивая при этом всевозможные идеи о прекрасном и безобразном.
Эта картина так и осталась в моей жизни как праздничное мгновение моих воспоминаний: высокий, стройный врач со смелой, решительной походкой, с зонтиком в правой руке, которым он размахивает вдоль туловища, и я, десятилетний мальчик, жадно внимающий его словам.
Наряду со всем этим меня сильно занимало железнодорожное хозяйство. На станционном телеграфе я впервые наглядно познакомился с учением об электричестве. Уже ребенком я умел телеграфировать.
Что касается языка, то я всецело вырос на немецком диалекте, на котором говорят в восточных областях Нижней Австрии. В сущности, этим же диалектом пользовались тогда в областях Венгрии, пограничных с Нижней Австрией. К чтению у меня было иное отношение, чем к письму. В детстве я проходил мимо слов, углубляясь душой непосредственно в воззрения, понятия и идеи, так что чтение отнюдь не развивало во мне навыков орфографии и грамматики. В письме же, напротив, я стремился закреплять словообразы в звуках, как они слышались мне в местном диалекте. Поэтому мне чрезвычайно трудно давалось письмо, в то время как чтение с самого начала было делом легким.
Среди подобных влияний достиг я того возраста, когда перед моим отцом встал вопрос, куда меня определить: в гимназию или в реальное училище в Винер-Нойштадте. В этот период наряду с политикой часто обсуждалась и моя будущая судьба. Отцу приходилось выслушивать самые разные советы, но я уже знал, что он охотно выслушивает других, но поступает согласно своей собственной твердой воле.
Намерение отца дать мне необходимое предварительное образование для дальнейшего моего устройства на железную дорогу сыграло решающую роль в вопросе, куда меня определить: в гимназию или в реальное училище. Мечты моего отца сводились к тому, чтобы сделать из меня инженера путей сообщения. Поэтому выбор пал на реальное училище.
Однако прежде нужно было решить, достаточно ли я подготовлен к переходу из сельской нойдорфльской школы в одну из школ соседнего Винер-Нойштадта. Поэтому меня повели сначала держать вступительный экзамен в городскую школу.
Все эти события, касавшиеся моей будущности, не возбуждали во мне глубокого интереса и проходили мимо меня. В том возрасте я с полным безразличием относился к тому, как и куда меня определят: в городскую школу, в гимназию или в реальное училище. Благодаря тому, что я наблюдал вокруг себя, о чем размышлял, душу мою томили неопределенные, но в то же время жгучие вопросы о жизни и мире; я хотел учиться, чтобы получить ответы на них. При этом меня беспокоило мало, благодаря какой школе это произойдет.
Приемный экзамен в городскую школу я выдержал успешно. Были предъявлены рисунки, выполненные мной у помощника учителя: они произвели на экзаменовавший меня преподавательский состав столь сильное впечатление, что способствовали более снисходительному отношению к моим недостаточным познаниям. Мне было выдано "блестящее" свидетельство. Как радовались этому мои родители, учитель и священник, другие уважаемые люди Нойдорфля! Успех мой радовал всех, потому что для многих он служил как бы доказательством, что и "нойдорфльская школа чего-нибудь да стоит".