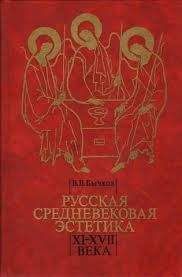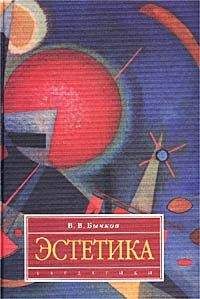Культура поздней античности представляла собой пеструю смесь разнообразных феноменов, архаических и новаторских, восточных и западных в сферах быта и философии, религии и науки, искусства и колдовства, утонченной духовности и неприкрытого шарлатанства. Активно развивался процесс, возникший еще во времена Александра Македонского, соединения и соответствующего переосмысления на основе греко-римской культуры египетских, ассиро-вавилонских, индийских, персидских и древнееврейских идей и культурно-исторических традиций. Многие высокообразованные эллины и римляне путешествуют по Востоку, изучая культуру его народов. Неопифагореец Аполлоний Тианский за «высшей мудростью» отправляется даже в Индию, к брахманам, которые представляются ему неземными существами.
Кризис античного рационализма обусловливает переключение внимания как духовной элиты, так и народных масс в сторону восточных мистико-символических культов, мистерий, гаданий и заклинаний. Растет потребность в чудесном и таинственном; пышно расцветает астрология. Восточные маги, волшебники и пророки наводняют Римскую империю. В области религии намечается всеобъемлющий синкретизм, признающий всех и всяческих богов, божеств и демонов[8], т. е. всебожие, внутренне тяготеющее к своему антитетическому завершению - единобожию, монотеизму. Эллинистический Олимп переполнен массой восточных «чужестранцев», принявших вид богов и вытесняющих его исконных обитателей, вынужденных, по известной сатире Лукиана (II в.), даже бороться за свои права. Ведь эти непрошеные гости «так заполнили небо,- сетуют старожилы Олимпа,- что пир наш стал теперь похожим на сборище беспорядочной толпы, разноязычной и сбродной, что начало не хватать амбросии и нектара и кубок стал стоить целую мину из-за множества пьющих»[9]. Не истинно ли эллинский пафос звучит в обличениях Мома: «Но Аттис, о Зевс, но Корибант и Сабазий, - откуда они приведены к нам вместе с этим мидийцем Митрой, в персидской одежде и с тиарой, даже не говорящим по-гречески, не понимающим, когда пьют за его здоровье? <...> Ты же, египтянин с собачьей мордой, завернутый в пеленки,- ты кто таков, милейший, и как можешь ты, лающий, считать себя богом? И почему пятнистому быку из Мемфиса воздаются почести, почему вещает он, окруженный пророками? Уж о козлах, ибисах, обезьянах и многом другом, еще более нелепом, что неизвестно как проползло к нам из Египта и заполнило все небо, мне и говорить стыдно»[10]. Однако этот классический пафос, пронизанный у Лукиана глубокой иронией и в отношении самих исконных обитателей Олимпа, был, конечно, чужд разноплеменным гражданам огромной Римской империи. Сами боги эллинского Олимпа, слишком уж антропоморфные, не могли удовлетворить изощрившееся религиозное сознание человека позднеантичного мира.
Уже в VII в. до н. э. осуществлялось более или менее регулярное знакомство греков с египетской культурой[11], мудростью, религией, которые постоянно вызывали у них благоговейное восхищение (вспомним «Тимей» Платона). Существовали легенды о посещении Египта Пифагором, Ликургом, Платоном. Геродот преклонялся перед величием египетской религии. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» не устает восхвалять египетскую религию за глубину и мудрость, присущие ее культу. При этом на первый план он выдвигает не обрядовую, а гносеологическую функцию религии. «Людям, обладающим рассудком, следует искать всех благ у богов, а более всего познания самих богов, насколько оно для человека достижимо... Нет ничего выше стремления к истине, в особенности той, которая касается богов и заключает в себе жажду приобщения к божественному началу, так что изучение мудрости является восстановлением подлинного богослужения» (De Isid. 1 - 2)[12]. Пересказав миф об Исиде и Осирисе, Плутарх замечает, что его ни в коем случае не следует понимать буквально, ибо главное значение мифа заключено в его таинственном внутреннем смысле, раскрывающем глубинные движущие силы мироздания. «...Миф Озириса и Изиды, - писал русский философ начала века С. Н. Трубецкой, - является Плутарху откровением изначальных божественных потенций, действующих в мировом процессе». Плутарх не отвергает мифы, «как бы ни были они нелепы, а объясняет их как символы философских истин»[13].
Официальный Рим недоверчиво относился к восточным культам, а к некоторым, наиболее изуверским, в высшей степени отрицательно, как к грубым суевериям варварских народов. Однако стремление держать в повиновении эти народы заставляло римлян признавать и даже возводить в ранг государственных наиболее популярные из этих культов. Но еще задолго до того, как восточные культы были признаны официальным Римом (в основном в III в.), они нашли широкое распространение в кругах простого народа, особенно среди угнетаемых низов, но также и у некоторой части духовно изощренной римской аристократии. Чем привлекали к себе греко-римское население Империи культы восточных богов и сами эти боги?
В период ломки социальных устоев древности, кризиса старых духовных ценностей, социальных, нравственных и религиозных идеалов, в условиях активного взаимопроникновения восточных и западных культур, нестабильности всех социально-значимых ценностей внимание человека, все его духовные силы направляются на вдруг открывшийся ему в период поздней античности мир его внутреннего духовного бытия, мир глубинных переживаний, неосмысляемых побуждений, стремлений, духовного томления, ярких озарений, блаженства и беспричинных страданий. Возбуждению этих феноменов духовного мира человека во многом способствовали восточные, таинственные, как правило, несуразные с точки зрения здравого смысла мистерии и культы, приводившие, однако, своих участников в возбужденное, часто дикое состояние.
Сладостность культового экстатического страдания осмыслялась как почти физическое слияние с божеством[14]. Страдание в культовом экстазе как бы очищало и умиротворяло человека. Не случайно почти все восточные боги, получившие признание в Империи,- это страдающие, гибнущие и воскресающие боги, искупающие своими страданиями грехи мира и воскресающие для новой, радостной жизни, чего так страстно желали и для себя угнетенные массы.
Огромную роль в религиозной жизни поздних римлян играл культ персидского бога света и правды Митры, который был, пожалуй, главным и самым серьезным конкурентом Христа[15]. В культе и религии Митры была предпринята одна из наиболее удачных попыток организации на основе эллинистических верований монотеистической религии, удовлетворявшей потребностям духовной чистоты, нравственной дисциплины, мистической углубленности в таинство, дававшей надежду на бессмертие[16]. В его культе соединились мистериальные элементы, восходившие к орфическим и пифагорейским тайнодействам, с формами персидских культов солнца и света. В религии Митры господствовали космические начала. По своему духу она была ближе к неоплатоническому мистицизму, чем к христианской религии спасения. В митраизме отсутствовало женское божественное начало со всем комплексом женских чувств, переживаний, чаяний, присущих отнюдь не только женщинам, но общих для всего человечества. Митраизм мало что давал скорбящей и любящей душе и никак не поощрял ее[17].
На уровне философского мышления пестрое многообразие духовной культуры поздней античности способствовало возникновению и процветанию новых философских систем: стоицизма, эпикурейства, скептицизма, неопифагорейства и неоплатонизма,- стремившихся на интеллектуальном уровне удовлетворить духовные потребности гражданина ойкумены. В частности, предпринимаются попытки сохранения и классической религии путем аллегорически-символического толкования древней мифологии (стоики, неоплатоники).
Культурная жизнь в эпоху поздней античности пестра и многообразна. Особенно активна она была в крупных городах Империи - Александрии (пожалуй, главном духовном центре эллинизма), Риме, Афинах, Пергаме, Родосе, Карфагене. Александрия считалась в до-Константинову эпоху вторым городом Римской империи и первым торговым центром мира[18]. Здесь концентрировалась вся мудрость Востока и Запада; жаждущих знаний привлекала огромная библиотека и центр всех наук - Мусейон.
Карфаген по количеству жителей и богатству немногим уступал Александрии «и был, бесспорно, вторым городом латинской половины Империи, самым оживленным и, быть может, самым испорченным городом Запада после Рима и самым крупным центром латинской науки и литературы»[19]. Африканские провинции были житницей Рима, и поэтому Карфаген процветал во всех отношениях. Там был свой сенат, свой капитолий и почти самостоятельное управление. Карфаген был также известен на всю Империю своими риторами, поэтами, учеными, особо славился он юридической школой. Этот, по выражению Ювенала, «рассадник адвокатов» поставлял своих питомцев в Рим и другие города Империи.