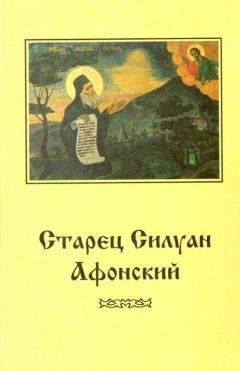Из рассказов отца о жизни казачества в начале прошлого века мне запомнилось торжественное благоговение, с которым их семья, жившая на собственном хуторе, ходила на воскресные службы в дальнюю станицу. Принаряживались и одевались в новые одежды все домочадцы и работники, от мала до велика. Но так как путь был не близким, то обувь берегли, шли босиком, а сапоги несли на плечах, увязав их на посохи. На неделе вставали рано, в три-четыре часа утра, зимой и летом. Читали утренние молитвы, а затем расходились к лошадям, овцам, быкам, доили коров и выгоняли скотину к пастуху, который шел, хлопая длинным бичом и собирая стадо звуком рожка.
С малых лет дети помогали старшим в работах в поле и дома. Дедушка во время весенней вспашки брал с собой большую икону Спасителя и ставил ее в начале борозды, на возвышении. Отец мой, тогда еще маленький мальчик, ведя быков, тащивших тяжелый плуг, которым дед вспахивал борозду, часто оглядывался на икону, недоумевая, что означает благословляющая рука Спасителя. Наконец, мальчик решился спросить отца:
— Папа, а почему Господь на иконе так пальчики держит?
Он, добродушно усмехнувшись, ответил:
— А это, сынок, означает, что Бог всегда смотрит, как ты работаешь, а пальчиками показывает: хорошо, мол, трудись, Я все вижу!
Вся большая семья, вместе с работниками, обедала за длинным деревянным столом, который бабушка после еды окатывала кипятком и добела скоблила ножом. Если кто из детей капризничал или лез ложкой в чугунок с кашей прежде старших, получал от деда деревянной ложкой по лбу.
В жизни казачества той далекой поры в станицах и хуторах весь уклад определяли старики. Молодежь, проходя мимо них, всегда кланялась, а взрослые почтительно снимали шапки. Пьянства не было, пьянчуг наказывали розгами. А вот петь любили все. И эту любовь к пению довелось увидеть и мне. Даже колхозы не смогли отбить у казаков любовь к своим песням, в которых просилось на степной простор что-то манящее, родное и привольное.
Когда после потери хутора наша семья жила уже в станице, то в поля и с полей ездили в грузовиках, из которых всегда неслась веселая мелодия. А когда начинало закатываться солнце, то эти мелодии, казалось, перетекали с одного края станицы на другой. Помню, как догорающий вечер раскидывал над степью необъятный звездный купол и представлялось, что поет весь степной край песню несломленной свободы, песню чистой казачьей души. Думалось, что открывшийся мне мир добра и счастья навсегда останется со мной, как и то незабываемое любимое детство, которое стало частью моей души и вошло в плоть и кровь.
Наш дом одной стороной выходил на луг, называемый «выгон», где паслись коровы и лошади. Трава там росла низкая, от частого выпаса словно подстриженная. В период майских гроз как будто все весенние радуги спешили вспыхнуть над лугом, чтобы дать место покрасоваться и другим радугам. В луговых низинах стояла теплая вода, отражая высокие белые облака, по которым мы пробегали босиком, разбрызгивая сверкающие небеса. Но то, что пребывало внутри, было больше и важнее того, что находилось вне меня, ибо оно являлось главным, тем, ради чего существовало все остальное и даже я сам. Оно определяло все вокруг, то, что оставалось внешним и не имело этой жизни, которая жила во мне в великом молчании и покое, и к которой так трудно оказалось вернуться став взрослым.
Находясь постоянно среди сверстников, меня не покидало удивительное ощущение, подобное сокровенному пониманию, что нечто во мне безсмертно и будет существовать вечно. Что-то необыкновенное и предельно ясное окружало меня со всех сторон, но более всего пребывало внутри меня и, словно немеркнующий свет, ясно открывалось моему сердцу. Оно являлось мною и было безсмертно. Оно не могло умереть, ибо не ведало смерти. Тогда мне представлялось, что это ощущение, неотъемлемое как воздух, которым мы дышим, свойственно всем людям.
Находясь в этом безсмертном «нечто», похожем на сферу, не имеющую границ, мне было легко и свободно жить, потому что в этом пребывала сама жизнь или, точнее, оно само было жизнью. Это удивительное неведомое ведало жизнью и подсказывало детскому сердцу как нужно жить. Только много лет спустя мне удалось понять, что это состояние детства, неумирающее и вечное, есть переживание постоянного самообнаружения или откровение души, существующей в чистоте народившейся жизни, неразрывно связанное с Богом, сказавшим о детях удивительные и мудрые слова — что их есть Царство Небесное.
Первый умерший, которого мы увидели, не вызвал у нас, детей, чувства страха, а скорее удивление перед странным поведением взрослых, которые словно играли в неприятную игру, в истинность которой не верило детское сердце. Каждый раз после Пасхи сельчане, приготовив куличи, различные печеные изделия и набрав в сумки крашеных яиц, отправлялись со всей этой снедью на кладбище, где поминали своих близких. Так делала и моя мама, с которой я ходил среди могильных крестов, держась за ее руку. В то время она была глубоко верующей, на всю жизнь отказалась от мяса, и я часто видел ее молящейся. Помню огромное количество полевых цветов, сплетенных в венки, которые украшали деревянные кресты, горящие свечи, светлую печаль на лицах людей — и странное чувство овладевало мной, как будто мы находились среди живых, где не было тех, кого принято называть усопшими. Поэтому из той поры в памяти так сильно запечатлелись церковь и кладбища.
Вернувшись домой, я пытался представить себя мертвым: закрывал глаза и переставал на мгновение дышать. То, что мое тело существует, ходит, бегает, совершает разнообразные действия, я понимал, но в то же самое время не чувствовал, что оно имеет вес, чувство тяжести тела отсутствовало полностью. Состояние легкости и спокойного счастья не оставляло меня ни на миг. И даже когда я закрывал глаза, оно не менялось и наполняло всего меня ощущением полноты жизни, не имеющей ни перерывов, ни конца. Как же эта жизнь могла умереть? И почему взрослые так скорбят при виде мертвого тела, если жизнь умершего не прерывалась?
Ощущение того, что я никогда не могу умереть, наполняло сердце тихой радостью и пронизывало все движения моего тела. Это было чувство безграничной доброй свободы, которое трудно было сдерживать. Усидеть дома я не мог, потому что улица и дом для меня были одно и то же. Безпрерывно хотелось прыгать, чтобы достать головой до неба, или хотя бы до белых облаков, бежать, обгоняя не только соседским мальчишек, но даже ветер, и смеяться звонче всех птиц в округе.
— Вот непоседа растет… — улыбаясь, ворчала бабушка.
— Ну когда же ты угомонишься? — удивлялась мама.
А мне казалось, что я веду себя спокойно, что это только взрослые какие-то неуклюжие и замедленные, словно спят на ходу. Во все время детства мне не хотелось есть дома, потому что мои друзья, как и я, постоянно что-то ели по садам и огородам: недозрелые яблоки, с ужасным вяжущим вкусом, зеленые кислые абрикосы, страшно терпкие ягоды терновника, вишневую смолу, текущую из трещин древесной коры, зеленые вишни с белыми косточками, ароматные и душистые цветы акации, даже мел — и все это казалось необыкновенно вкусным, и толк в этой еде понимали только мы.
Домашние обеды, такие привлекательные на вид, есть абсолютно не хотелось. В тарелке супа я видел лишь острова из картофеля, разделенные суповыми проливами, с подводными рифами моркови и вермишели. Мой корабль — столовая ложка, отважно скользил по этим проливам, причаливал к неисследованным картофельным островам и даже тонул в суповом море.
— Отец, посмотри, что он творит в своей тарелке! — не выдерживала мама.
— Сын, если не будешь есть, не станешь сильным и здоровым! — строго внушал мне он.
Сильным и здоровым мне хотелось быть, но играть хотелось еще больше, и все начиналось сначала: огорчения быстро забывались, а детской впечатлительной восторженности казалось не будет конца.
Безсознательно вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа, только что вышедшая, словно из Божественной колыбели, из вечности, и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка, оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного безсмертного бытия, смысл которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже: «Если я существую, Господи, тем более существуешь, воистину, Ты — Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений. И если Ты есть, Боже, то где же быть Тебе, как не во мне, грешном и во прахе лежащем? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце!»