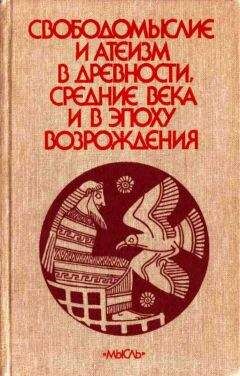И ещё — за моим гробом начинается область мрака, и я её не знаю. Мне говорят, что для меня это небытие, но с этим я смириться не могу. Пока я жив, вера в индивидуальное моё бессмертие не покинет меня — значит, как же мне обойтись без того, что за гробом? Эта вторая причина тяги к религии — вспомни удивительного Жана Баруа Р. дю-Гара. Я строю модель бесконечного мрака во времени, такую, что удовлетворит меня, успокоит, даст надежду. Просто — я хочу жить. В этой жизни или той — всё равно. Жить.
Эти две причины общие — и для героев, и для подонков. Но от второй причины — ниточка к проблеме нравственности, которая встаёт, конечно, только для не-подонков. Ибо если нет «той» жизни, если всё скоро кончается, то не всё ли равно, как я веду себя в «этой жизни», ведь тогда «всё дозволено» — знаменитый тезис Ивана Карамазова. Но не всё дозволено, если моё земное существование — ещё не конец и за ним грядет расплата. Так рассуждает, видимо, верующий.
Это опора нравственности — для нравственного (т. е. испытывающего потребность в нравственности), но слабого человека — такая же опора, как страх закона для потенциального убийцы или вора. Человек не в состоянии ещё найти иной опоры для нравственности, кроме страха. И это немаловажно, ибо слабых людей — не скажу большинство, но много. Так зачем отказывать им в подпорках?
Эти причины более серьезные и более длительно-действующие, чем те, о которых ты пишешь и в которых очень много просто от политической злобы дня.
Здесь, в лагере, особенно сильны все перечисленные причины, а первые две — преимущественно. Да и ещё добавляется одна, на воле почти неощутимая (впрочем только почти). Это — та почва для эсхатологических настроений, которую даёт религия. Для человека нет надежд, нет исхода, а здесь — надежда на «неслыханные перемены, невиданные мятежи»… Впрочем, тут религиозность уже перерастаёт в болезненное состояние и выходит за пределы обсуждаемой темы.
Таким образом, я согласен с тобою в том, что корни религиозности (как антирелигиозности) лежат в морально-этической сфере и здесь же должно питаться антирелигиозное воспитание. Антирелигиозное чувство может возникать только в результате ощущения самоценности человека, независимо от того, чьё он творение, самоценности человека, а не Бога в человеке. Это трудно, так как такая позиция требует от человека многих сил. Поэтому-то так мало неверующих — гораздо меньше, чем просто нерелигиозных.
Ты верно заметил, что верующий непременно присоединяется к некоей массе. Это верно всегда — и тогда, когда человек ощущает себя частицей мистического тела Христова — Церкви, и тогда, когда он говорит: «Я рад, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз»… И, безусловно, ты прав, говоря, что и в этой, и в противоположной позициях есть свои гордыни. Которая «лучше» или «хуже» — по-моему, нельзя решить принципиально. Это — дело индивидуального выбора. Лично меня поразила своею близостью мне одна мысль Стендаля, высказанная им, кажется, в «Анри Брюларе». Стендаль говорит, примерно, так: «Я очень люблю народ. Я готов ради него на всё, даже пожертвовать за него жизнью. Я не готов только к одному — жить среди него». Это и есть позиция «неприсоединения» применительно к нашей «вере».
Впрочем, опыт последних полутора лет сильно поколебал мою уверенность в том, так ли уж абсолютно моё «неприсоединение». Возможно, что вопрос лишь в том, к кому присоединиться. Думаю, что и у тебя это так, и всмотревшись в себя, ты это «присоединение» обнаружишь. Надо полагать, это в биологической природе человека, как животного общественного.
И на этом я, пожалуй, закончу это затянувшееся антирелигиозное эссе.
2.9.73
(Лагерь № 19, пос. Лесной, Мордовия, ПКТ /лагерная тюрьма/)
Г. С. Подъяпольский
Письмо К. А. Любарскому (от 19.10.1973)
Кронид, милый!.. Твои упрёки относительно пошлости моего взгляда на религию, вероятно, справедливы. Но отчасти (только отчасти, а не совсем). Тут тоже не исключён некоторый элемент непонимания, связанного с дефектами моего изложения. Более конкретно — злоупотреблением метафорами и аллегорией: например, говоря о непорочном зачатии, я подразумевал в сущности просто предмет любой веры вообще — и только в некоторых аспектах и более для красного словца использовал его буквальный смысл. Может быть, отчасти ты воспринял эту аллегорию чересчур буквально. Но, видимо, твой упрёк больше относится не к той внешней стороне, а к сути — тут он, конечно, тоже справедлив и всё же кое-в чём, в целях ничего иного, кроме истины, позволь мне сказать несколько легкомысленных возражений на твою серьёзную трактовку.
Видишь ли, вера, о которой ты пишешь — это в сущности есть вера индивидуального духа, индивидуального, как отдельного индивида или человечества, — не суть в данном контексте важно. Но ведь это только одна, так сказать, идеальная сторона веры — а есть в ней и другая, реальная сторона, вера как социальный феномен, социальный фактор, вера множества индивидуумов, которых она связывает: религо, коммон, фасцио — всё это слова с весьма близкой в этом смысле этимологией. А вера как феномен множества включает в себя весьма изрядную долю легковесности, как-то: преклонение перед авторитетами и священными книгами, чувственная символика с проецируемым на неё сокровенным смыслом, и прямо обезьянничанье.
19.10.73
К. А. Любарский
Письмо Г. С. Подъяпольскому (от декабря 1973)
Из письма жене:
***
Несколько слов о твоих замечаниях относительно веры, как феномена множества. Да, разумеется, вера во все времена (хотя не всегда и везде) использовалась как фактор социальной интеграции. Но эта функция отнюдь не является абсолютной прерогативой веры. Такова неизбежная судьба любой мало-мальски влиятельной общественной идеи. Яркий пример — национализм в лучшем смысле этого слова (кстати, исторически весьма часто национализм надевал религиозную маску). Разве национализм не является ещё более (или столь же) ярким примером феномена множества?
Феномен множества — явление для человечества неизбежное в силу общественной природы вида Homo sapiens. В этом смысле Маркс прав, говоря, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества (может быть, прав именно потому, что мысль эта, в сущности, восходит ещё к библейским временам). Социальные интеграторы поэтому просто необходимы для существования общества (случай индивидуализма, даже самого подчёркнутого, вполне сюда укладывается — речь ведь идёт лишь о смене знака: то, что кажется полностью самостоятельным, как правило, просто «анти»). Очень интересные мысли о роли социальных интеграторов и о периодическом характере их возникновения, помнится, в своё время высказывал Г. Померанц в «Моделировании исторического процесса».
Исторически периоды усиления социальных интеграторов (религиозных, национальных, классовых, партийных, культурных) — всегда периоды расцвета общества. Периоды их ослабления, эрозии — периоды упадка. Именно в такие периоды и выясняется, что «гниль завелася в датском королевстве».
Таким образом, свойство быть социальным интегратором (или, как ты выражаешься, — феноменом большинства) — отнюдь не прерогатива религии, и, следовательно, не сущность её. Как всякое сложное явление, она просто может выступать ещё и в этой ипостаси, наряду с другими явлениями. И эта её ипостась — отнюдь не отрицательная сторона её, а наоборот, важное и необходимое свойство.
Естественно, что рассчитывая на массы, социальный интегратор должен выработать весь арсенал соответствующих аксессуаров, которые тоже не прерогатива религии. Примеров достаточно. Так, у национализма — это флаги и символы, национальные герои, песни, эпос (как правило, о борьбе с иноплеменным врагом и его уничтожении), даже одежда подчас и т. п. Причины концентрации такие, в общем-то, легковесные атрибуты, по-моему достаточно ясны — без них трудно рассчитывать на всеобщность интегратора. У религии мифология и символика свои, но роль их в значительной мере такова же.
Так что и здесь твоя атака на веру бьёт мимо цели. Хотя причины твоего неприятия веры и атрибутов её мне понятны и я их разделяю, но анализ твой неточен.
Как возникает атрибут социального интегратора и почему он привлекает такое внимание? Обычно это происходит так.
Возникает некая великая социальная идея, рождённая насущными нуждами эпохи. У неё тысячи питающих её корней, без которых она немыслима, нежизнеспособна. Она включает в себя целый комплекс философских, социальных, культурных, экономических обобщений, которые столь же мобильны, как мобильна питающая их среда.
Такая идея (и носители её), естественно, желают, чтобы «идея овладела массами». Но масса на то и масса, что она не может (и это её беда, а не вина) овладеть этой идеей во всей её сложности и глубине. Для массы, чтобы идея ею овладела, её нужно представить в виде небольшого числа ясных, четких лозунгов, экстрактов идеи.