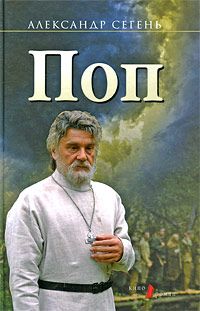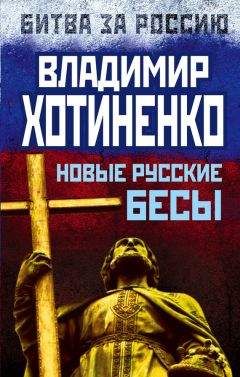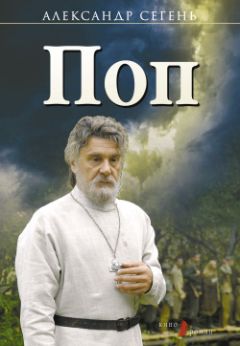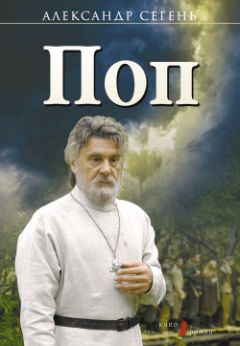— Мне надоело слушать об этих поганых русских попах! — истерично завопил Гитлер. — Поставьте перед ними чёткую задачу — отречься от сталинского Патриарха и всё! Если нет, поручите Кальтенбруннеру разработать операцию по физическому уничтожению этого непокорного митрополита. Пусть наши люди переоденутся партизанами, нападут на него и ликвидируют. Осуществление операции поручить начальнику полиции Остланда. Кто там у нас сейчас?
— Обергруппенфюрер СС Эккельн.
— Действуйте, Альфред. И перестаньте вы носить свой опереточный мундир, я много лет вам собирался об этом сказать, да не хотел обидеть. Блонди! Блонди! Ты мой зайчик, зайчик, зайчик!
И фюрер стал неистово и нервно трепать овчарку, изливая на неё всю свою любовь.
Миновала Пасха. В последних числах апреля митрополит Сергий Воскресенский был в Вильне, когда к нему пришло сообщение из Риги о смерти его давнего друга, прекрасного русского певца Дмитрия Смирнова, в прежние времена певшего еще с Шаляпиным в Мариинке.
Ещё с Рождества в митрополите поселилось привязчивое предчувствие близкой смерти. Он составил духовное завещание, назначил трёх соискателей в заместители экзарха, а себя в случае смерти распорядился похоронить в Риге на Покровском кладбище. Теперь, после известия о смерти друга, томительные предчувствия возобновились в нём с удвоенной силой. И, отслужив панихиду по усопшем, Сергий тихо сказал священнику Михаилу Кузьменко:
— Сдаётся мне, я сегодня себя отпевал...
Он решил поспешить в Ригу на похороны Смирнова.
С собой взял другого оперного солиста Иннокентия Редикульцева, некогда прекрасно певшего басом в Большом театре. Тот ехал на заднем сиденье со своей женой Марией Михайловной, а высокопреосвященный сидел на переднем кресле лимузина рядом с водителем, нервно стукая вокруг себя скрученной в трубочку газетой и напевая:
— Скромненький синий платочек...
В последнее время он всё чаще слушал тайком советское радио и очень полюбил эту песенку.
— Владыко, а что немцы? Больше не требуют отречься от Патриарха? — спрашивала Мария Михайловна.
— Ну да, не требуют! — улыбался митрополит. — На Страстной седмице мне из Берлина поступили аж две телеграммы. Меня откровенно упрекали и ставили ультиматум: я должен выпустить заявление. И в нём объявить, что я не признаю избрание в Москве Патриарха Сергия Страгородского и считаю Патриарший престол вакантным.
— И что же теперь, после ультиматума? — спросил Редикульцев.
— Пока тихо. Я, конечно, отказался выпустить подобное заявление. Жду, что будет дальше. Не будем о грустном. Весна! Гляньте, как всё снова распускается! Вот благодать Божья! За все грехи человечества Господь мог бы взять, да и отменить лучшие времена года. Например, весну. Кончается зима, а следом за ней — сразу знойное и засушливое лето. А потом, минуя золотую осень, сразу опять морозы, ветры, слякоть. Но нет. Сколько бед люди принесли друг другу, а, гляньте, снова весна красна! Иннокентий Фокич! Спой чего-нибудь для души. Весеннее, погуще!
Солист Большого театра улыбнулся, откашлялся и запел из хора пленников вердиевского «Набукко»:
Va, pensiero, sull'ali dorate,
Va, ti posa sui clivi, sui colli
Ove olezzano tepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
— Куда это они так гонят? — проворчал водитель, глядя в зеркальце на то, как другая машина стремительно догоняет их, выжимая максимальную скорость. Иннокентий Фокич тем временем продолжал петь:
Del Giordano le rive saluta,
Di Sion le torri atterrate...
Oh mia patria si Bella e perduta!
Oh membranza si cara e fatal!..
— Немцы вообще стали весьма торопливы в последнее время, — усмехнулся экзарх. — Скоро драпать, вот и вырабатывают в себе блошиную прыть. Скоро в свой Хаймат! Иннокентий Фокич, спой что-нибудь наше, русское... Ну что ты, в самом деле...
Солист погасил пленников, снова откашлялся и запел:
«Помилуй нас Бог Всемогущий
и нашей молитве внемли!» —
Так миноносец взывал «Стерегущий».
Вдали от родимой земли.
Капитан прохрипел: «Ну, ребята!
Для нас не взойдёт уж заря!
Героями Русь ведь богата:
Умрёмте ж и мы за царя!»
До Ковно оставалось километров тридцать. Машина с немецкими офицерами поравнялась и стала обгонять, подрезая.
— Ну что они делают, болваны! — выругался водитель.
— А я вон того со шрамом на лице знаю, — сказала Мария Михайловна. — Он из гестапо!
Этот офицер со шрамом высунулся из окна и закричал почему-то по-русски, но с сильным акцентом:
— Проклятий! Проклятий! Слуга немцем! Смерт тебье!
Немецкий джип перегородил дорогу, и в следующий миг немцы открыли огонь. Водитель успел нажать на тормоз и приткнуться к обочине, прежде чем пули прошили его и митрополита. На заднем сиденье, прикорнув друг к другу, мгновенно скончались, получив смертельные раны, бас Редикульцев и его супруга.
Фашисты выскочили из своей машины и ещё раз обстреляли автомобиль митрополита. Вытащили Сергия, удостоверились, что он мертв, стали оглядываться по сторонам. Увидели девушку с корзинкой — литовочку Маритю из деревни Сургантишки, расположенной как раз в том месте. Родители послали её в соседнюю деревню Круонис за дрожжами для булочек — через два дня Марите исполнялось шестнадцать лет. Но немцы и её застрелили. Прямо в голову. Офицер со шрамом громко крикнул:
— Да здравствуй Шталин!
После этого они сели в свою машину и быстро уехали. Всё это видела другая девочка, Мальвинка, пасшая на откосе коров. Она, окаменев, стояла и смотрела, как фашисты чинят расправу, зачем-то выкрикивая русские слова с сильным немецким акцентом.
Мальвинке было страшно, что они и её увидят и тоже убьют, но она не могла пошевелиться, стояла и смотрела в ужасе, как выстрелили в голову Марите.
Затем гитлеровцы впрыгнули в свой джип и рванули на бешеной скорости дальше в сторону Ковно.
А из Круониса на велосипеде ехала ещё одна девочка Настя...
И из деревни Сургантишки уже бежали люди на место страшной казни...
Отец Александр Ионин видел это, сидя в общей камере знаменитой ленинградской тюрьмы «Кресты». В камере шёл спор между двумя уголовниками. Один говорил:
— Этот поп у немцев шестерил, козлина. Я его ночью на ремни порежу.
Другой возражал:
— Ты-то сам откуда это знаешь? Тебе псы конвойные напели. Ты что, псов слушать будешь?
— Да я по его фасаду вижу, что он предатель Родины.
— Не бойся его, отец, я тебя в обиду не дам, понял?
И именно в сей миг отцу Александру отчётливо увиделось, как немцы вынимают из расстрелянной машины убитого митрополита Сергия, как зачем-то стреляют в невинную литовочку, как за щитами прячется другая девочка, как убийцы уезжают, а лицо мёртвого экзарха открыто небу, синие глаза смотрят удивленно, львиная грива расплескалась по асфальту.
В день праздника всех трудящихся Сталин стоял на трибуне Мавзолея, а Берия сообщал ему новости:
— В Литве застрелен митрополит Сергий Воскресенский, экзарх всей Прибалтики. Немцы объявили, что он убит бандой партизан, переодевшихся в немецкие мундиры.
— А на самом деле?
— Вероятнее всего, фашисты сами его ликвидировали. Он отказывался отречься от нашего Патриарха.
— Этот Сергий ведь был связан с нашими спецслужбами?
— Непосредственно работал с Судоплатовым.
— Надо будет потом как-нибудь почтить его память. А что там вся Псковская миссия?
— Часть попов уходит с немцами. Некоторые остаются на освобождаемых территориях и несколько человек уже арестованы нами. Что будем делать с ними, Коба?
— А ты что предлагаешь? К ногтю?
— Суды и лагеря.
— Что же, они все проповедовали за Гитлера?
— А нам охота в этом копаться?
— Перед нами стоит грандиозное количество иных задач. Ты прав, Лаврентий, сажай их. По десятке, по двадцатке, кому сколько. Кстати, потом мы сможем торговать ими с нашими главными иерархами, когда надо будет манипулировать. Это ты правильно решил. Проявляешь полезную жёсткость. Господь Бог на нашей стороне и нас не осудит. Лагерь — это тот же монастырь. Хороший священник это поймёт и роптать не будет. Для спасения души необходимо страдание. Что там ещё новенького? Крым?
— В Крыму у Толбухина и Ерёменко всё готово к началу штурма Севастополя. Через пару дней начнут.
— Жаль, что не успели к сегодняшнему празднику подарить нам Севастополь. А кроме Румынии нигде больше не вступили на чужую территорию?
— Пока нет.
— А хорошо бы. Только это способно поторопить союзничков открыть второй фронт. А ловко я тогда сказал Черчиллю. Когда он извинялся за то, что организовал интервенцию против молодой советской республики. А я ему: «Всё это принадлежит прошлому, а прошлое принадлежит Богу».
— Говорят, он потом всех поставил на уши, искали, откуда ты взял эту цитату. Да так и не нашли.
— Ещё бы!
При говоры участникам Псковской миссии были суровые. От десяти лет до двадцати. Многие не вернулись потом из лагерей. Начальник миссии протопресвитер Кирилл Зайц, арестованный в Шауляе, получил двадцатку и через четыре года окончил дни свои в казахстанском лагере. Начальник канцелярии Псковской миссии протоиерей Николай Жунда также получил двадцать лет и умер от туберкулёза в лагере Красноярского края. Печерский епископ Пётр Пяхкель получил десятку и тоже сгинул в лагерях. Псково-Печерский настоятель игумен Павел Горшков поначалу вошёл в комиссию по изучению преступлений фашистов на оккупированных территориях, но затем был арестован и вскоре умер в лагере. Такова же судьба многих, многих других, которые подобно им обрели свою смерть за советской колючей проволокой.