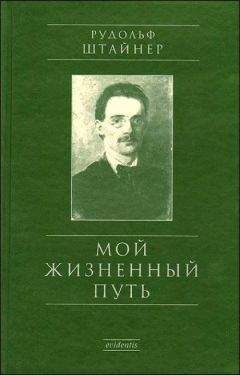Для меня было важно говорить о познании таким образом, чтобы при этом не просто признавалось духовное, но чтобы стало ясно, что человек может постичь это духовное через собственное созерцание. Но еще более важным для меня было показать, что "первоосновы" бытия заложены в пределах того, что человек может достичь в течение своей целой жизни, в отличие от того, когда мысленно признают, что неизвестное духовное находится в некой "потусторонней области".
Поэтому я отвергал тот образ мыслей, который содержание чувственного восприятия (цвет, тепло, звук и т. д.) принимает лишь за то, что вызывается в человеке неведомым внешним миром через восприятие его органов чувств, при этом сам этот внешний мир может быть представлен не иначе как гипотетически. Теоретические идеи, которые в данном направлении были положены в основу физического и физиологического мышления, воспринимались моим переживающим познанием как особенно вредные. Это чувство возросло и стало особенно живым в описываемый здесь период моей жизни. Все, что обозначалось в физике и физиологии как "лежащее за субъективным восприятием", вызывало во мне, если можно так выразиться, чувство познавательного недомогания.
Напротив, образ мыслей Лайеля[137], Дарвина, Геккеля казался мне хотя и несовершенным в том виде, в каком он выступал, — но способным к здоровому развитию.
Основное положение Лайеля, согласно которому явления, происходившие в доисторическую эпоху земного развития и не поддающиеся поэтому чувственному наблюдению, могут быть объяснены при помощи идей, вытекающих из сегодняшнего наблюдения этого развития, казалось мне весьма плодотворным. "Антропогению" Геккеля, которая пыталась самым основательным образом понять физическое строение человека путем выведения человеческой формы из животной, я считал хорошим основанием для дальнейшего развития познания.
Я говорил себе: если человек ставит своему познанию границы, за которыми должны находиться "вещи в себе", то тем самым он закрывает себе доступ в духовный мир; если же его отношение к чувственному миру таково, что он пытается объяснить в нем одно через другое (доисторическую эпоху земного развития — происходящим в настоящую эпоху, человеческие формы — через животные), то он сможет прийти к тому, чтобы распространить эту объяснимость существ и процессов и на духовное. Относительно того, что я ощущал в этой области, я могу сказать следующее: "Именно тогда укрепилось это во мне как воззрение, в то время как в мире моих понятий оно пульсировало уже давно".
Описанным мной душевным переломом завершился второй, более продолжительный период моей жизни. Пути судьбы обрели иной смысл, чем прежде. В венский и веймарский периоды внешние знаки судьбы указывали направления, совпадавшие с содержанием моих внутренних душевных устремлений. Во всех моих сочинениях проявляются основные черты моего духовного мировоззрения, даже если внутренняя необходимость повелевала не распространять мои наблюдения исключительно на область духа. В моей воспитательной деятельности венского периода присутствовали лишь наметки цели, возникавшие из прозрений моей собственной души. На веймарскую же работу, связанную с Гете, влияло только то, что я рассматривал как задачу, поставленную именно этой работой. Привести в созвучие эти направления, проистекавшие из внешнего мира, с моими собственными не представляло для меня особых затруднений.
Именно из такого течения моей жизни возникла возможность ясным образом понять и описать идею свободы. Я не считаю, что рассматривал эту идею односторонне в силу того, что она имела важное значение в моей жизни. Она соответствует объективной действительности, и то, что переживается посредством этой идеи, при добросовестном стремлении к познанию не может изменить эту действительность, но лишь позволяет в большей или меньшей степени углубиться в нее.
С этим прозрением в идею свободы связан столь многими неправильно понятый "этический индивидуализм" моего мировоззрения. В начале третьего периода моей жизни он также превратился из элемента, принадлежащего миру моих живущих в духе понятий, в то, что охватывало отныне всего человека.
Как физическое и физиологическое мировоззрения той эпохи, к образу мышления которой я относился отрицательно, так и биологическое, рассматриваемое мной, при всем его несовершенстве, как мост к духовному, ставили передо мной требование наилучшим образом разработать собственные представления относительно обеих областей мира. Мне предстояло ответить на вопрос: могут ли человеку открываться во внешнем мира импульсы его поступков? И я пришел к заключению, что для божественно-духовных, внутренне одушевляющих человеческую волю сил не существует пути из внешнего мира во внутреннее существо человека. Это стало для меня очевидным благодаря верно понятому физическому, физиологическому, а также биологическому образу мышления. В природе невозможно найти такой путь, который извне побуждал бы к волению. Поэтому никакой божественно-духовный моральный импульс не может таким внешним путем проникнуть в ту область души, где приводится к бытию действующий в человеке собственный импульс воли. Внешние силы природы могут увлечь за собой лишь природное в человеке. И тогда мы имеем не свободное проявление воли, а лишь продолжение происходящих в человеке и через него природных процессов. А это значит, что человек не вполне охватил свое существо, но, как несвободный в своих поступках, завяз в своей внешней природной оболочке.
Здесь речь идет не о том, чтобы ответить на вопрос, свободна человеческая воля или нет, часто повторял я себе. Возникает совершенно другой вопрос: каким должен быть в душевной жизни путь, ведущий от несвободной природной воли к свободной, т. е. истинно моральной? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как божественно-духовное живет в каждой отдельной человеческой душе. Ведь из нее исходит моральное; следовательно, в ее всецело индивидуальном существе должен оживать моральный импульс.
Моральные законы — в виде заповедей, обязанные своим происхождением внешним обстоятельствам, среди которых живет человек (даже если они первоначально исходят из области духовного мира), превращаются в нем в моральные импульсы не в силу того, что он направляет на них свое воление, но лишь благодаря тому, что человек совершенно индивидуально переживает их мысле-содержание как нечто духовно-сущностное. В человеческом мышлении живет свобода; и непосредственно свободной является не воля, а мысль, укрепляющая волю.
Поэтому в моей "Философии свободы" я должен был особо акцентировать свободу мысли относительно моральной природы воли.
Медитативная жизнь придала и этой идее особую силу. Моральный мировой порядок все яснее вставал передо мной как реализованное на земле проявление такого рода порядков, которые действуют в высших духовных областях. Их может вобрать в мир своих представлений лишь тот, кто способен признать духовное.
В описываемый период моей жизни все эти воззрения соединились для меня в одну всеобъемлющую истину: существа и процессы мира не могут быть объяснены, если мышление используется именно для "объяснения"; это возможно лишь в том случае, если посредством мышления проникают в суть процессов, и тогда одно объясняется другим, одно становится загадкой, другое — ее разрешением, и человек сам становится словом для воспринимаемого им внешнего мира.
Тогда переживают также истинность того представления, что в мире и его деяниях господствует Логос, Мудрость, Слово.
Я надеялся с помощью этих представлений проникнуть в суть материализма. Пагубность этого образа мышления представлялась мне не в том, что материалист направляет свой взор на материальное проявление какого-либо существа, а в том, как он мыслит материальное. Он смотрит на материю и не замечает, что в действительности перед ним дух, который только проявляется в материальной форме. Он не знает, что дух претерпевает в материи метаморфозу, чтобы развивать деятельность, которая возможна только в этой метаморфозе. Дух должен придать себе сначала форму физического мозга, чтобы в этой форме жить в мире представлений, который предоставляется человеку в его земной жизни свободно действующим самосознанием. И действительно: в мозгу из материи поднимается дух, но лишь после того, как из духа выступит физический мозг.
Мое отношение к физическому и физиологическому образу представлений было отрицательным лишь по той причине, что, согласно ему, внешним побудителем к познаванию в человеке духовного является не пережитое материальное, а помысленное, причем материя мыслится так, что проследить ее вплоть до того момента, где она является духом, невозможно. Та материя, реальность которой утверждается этим образом представлений, реально нигде не существует. Основная ошибка всех материалистически настроенных естествоиспытателей состоит именно в невозможности их идеи материи. Вследствие этого они закрывают себе путь в духовное бытие. Материя, которая пробуждает в душе лишь то, что человек переживает в природе, делает мир "иллюзией".