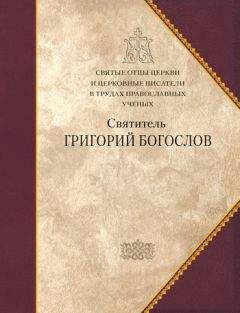Ознакомительная версия.
После Слов против Юлиана и о мире в истории проповеднической деятельности Григория существует пробел в целых шесть лет (363–369 годы). Судя по тому, что, по словам самого Григория в надгробном Слове младшему брату своему Кесарию (369 год), этот последний жаловался, что Григорий скрывает дар слова, и затем этот дар открылся на нем (то есть по случаю смерти Кесария), а также судя по тому, что данное Слово Григорий называет начатками своих речей[793], можно думать, что в этот шестилетний период св. Григорий или вовсе не говорил проповедей, или говорил очень мало. Подобным образом в «Слове по рукоположении в епископа Сасимского» Григорий говорит, обращаясь к Василию: «Вот тебе сверх прочего и Слово, которого ты, зная, домогался и которое хваля осыпал меня, коснеющего в безмолвии, частыми и густыми снегами слов твоих…»[794]. В «Слове защитительном по возвращении» подобным образом проповедник говорит: «Разрешено тобой [отцом Григория, через посвящение во епископа] мое молчание, на которое ты жаловался»[795]; и еще: «Доселе не уделял я слов моих даже друзьям и братьям»[796].
К 369 году относятся надгробные Слова младшему брату Кесарию и сестре Горгонии. В первом из них после приступа, в котором проповедник определяет характер своей речи и намечает ее содержание, он сначала говорит о родителях почившего — не для того, чтобы восхвалить их, а для того, чтобы из их свойств объяснить отчасти добродетели Кесария, затем рассказывает историю образования Кесария и его служебную карьеру. Тогда как сам Григорий возжелал «быть лучше последним» у Бога, нежели первым у царя земного, Кесарии, получивший самое лучшее образование в науках мирских, главным образом естественных, сначала был врачом в Византии[797], потом взят в число приближенных к государю в качестве первого врача, а потом казнохранителя. Вторая часть Слова содержит в себе «врачевство слова скорбящим» — общие рассуждения о суетности земной жизни (лучшее место в Слове) и о назначении человека-христианина для жизни небесной. Преимущества умершего Кесария по смерти состоят в том, что он не будет начальствовать, но и у других не будет под начальством; не станет в иных вселять страх, но и сам не убоится жестокого властелина, иногда не достойного начальствовать; не станет собирать богатства, но не устрашится и зависти, не повредит души несправедливым стяжанием; не сложит новых речей, но за речи же (прежние) будет в удивлении; не будет рассуждать об учении Гиппократа, Галена и других, но не станет и страдать от болезней, от чужих бед сообщая себе скорби; не будет доказывать положений Евклида, но не станет и сетовать о надмевающихся невеждах. «Но что, конечно, всякому дорого и вожделенно, у него не будет ни жены, ни детей. Зато ни сам не будет их оплакивать, ни ими не будет оплакиваем; не останется после других и для других памятником несчастия»[798]. Затем проповедник излагает символическое учение Церкви о состоянии умерших по смерти. Проповедник готов почти благодарить постигшую его горесть, расположившую его[799] к рассуждению о столь возвышенном и важном предмете, и заканчивает слово молитвой к Владыке всяческих о Кесарии, который хотя был последний в семействе, но первым предан судьбам Божиим, которыми все держится.
Надгробное Слово Горгонии, умершей менее чем через год после Кесария, начинается остроумными доказательствами права и обязанности превозносить и хвалить свое, если оно действительно достохвально. «Хваля сестру, буду превозносить свое собственное. Но отсюда не следует, что такая похвала будет ложью. Похвально то, что истинно, а истинно то, что справедливо и общеизвестно. Мне нельзя говорить по пристрастию, хотя бы и захотел; моим судьей будет слушатель, который умеет сличить слово с истиной и как не одобрит похвал незаслуженных, так потребует заслуженных. Боюсь не того, что скажу нечто сверх истины, а что не выскажу истины. Не надобно хвалить всего чужого, если оно несправедливо, но не должно унижать и своего, если оно достойно уважения, дабы первому не послужило в пользу то самое, что оно чужое, а последнему во вред то, что оно свое»1. Затем проповедник высказывает свой взгляд на панегирики вообще, к которым относится несколько снисходительнее, чем Василий, замечая, что если бы кто по правилам похвальных Слов стал бы хвалить отечество и род почившей, то он может сказать много прекрасного, если захочет украшать ее и отвне, как дорогую прекрасную картину убирают золотом, камнями и вообще такими украшениями, которые дурную картину более обнаруживают, а прекрасной, будучи ее ниже, не придают красоты. У нас же, замечает проповедник, цель всякого слова и дела — вести к совершенству других чрез возбуждение соревнования и подражания добродетелям умершей. Сказав затем несколько слов о ее и своих родителях, проповедник хвалит Горгонию за ее семейные добродетели: «В жизни известны два состояния — супружество и девство; одно выше и богоподобнее, но труднее и опаснее, другое ниже, но безопаснее. Устрашившись невыгод того и другого, она избрала и соединила воедино всё, что в обоих лучшего, — высоту девства и безопасность супружества. Она была целомудренной без надмения, с супружеством совместивши добродетели девства и тем показавши, что ни девство, ни супружество не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром. Она не отлучилась от Духа оттого, что сочеталась плотью, и не забыла о первой Главе оттого, что признала главой мужа. Послужив миру и природе в немногом и сколько требовал закон плоти или, лучше, Тот, Кто дал такой закон плоти, она всецело посвятила себя Богу и мужа своего склонила на свою сторону, самый плод тела — детей и внуков своих — соделала плодом духа…»; «Ее украшали не золото, отделанное искусной рукой до преизбытка красоты, не златовидные волосы, блестящие и светящиеся, не кудри, вьющиеся кольцами, не бесчестные ухищрения, из честной главы делающие род шатра, не многоценность пышной и прозрачной одежды, не блеск и приятность драгоценных камней, которые окрашивают собой ближний воздух и озаряют лица, не хитрости и обаяния живописцев, не покупная красота, не рука земного художника, которая выставляет напоказ похотливым очам кумир блудницы, чтобы поддельной красотой закрыть естественный лик, хранимый для Бога и будущего века… Один румянец ей нравился — румянец стыдливости, и одна белизна, происходившая от воздержания, а притирания и подкрашивания, искусство делать из себя живую картину, удобно смываемое благообразие она предоставила женщинам, определившим себя для зрелищ и распутий, для которых стыдно и позорно краснеть от стыда… В уповании на свою благотворительность она не предала тела своего роскоши и необузданному сластолюбию, сему злому и терзающему псу, как случается со многими, которые милосердием к бедным думают купить себе право на роскошную жизнь»[800].
Затем проповедник описывает ее благочестивый образ жизни, ее естество жены, в общем подвиге спасения победившее естество мужей и показавшее, что жена отлична от мужа не по душе, а только по телу. Вообще панегирики Григория, как и Василия, представляют не столько похвалу умершим, сколько уроки живым.
III
Проповеди епископские доконстантинопольские
Ряд епископских проповедей Григория начинается тремя Словами, сказанными по поводу посвящения его в епископа Сасимского в Назианзе в середине 372 года, именно: Слово при самом посвящении; второе — когда, как узник о Христе, «связанный не железными веригами, но неразрешимыми узами Духа»[801], он возвратился в Назианз после кратковременного удаления; третье из этих Слов Григорий говорил Григорию Нисскому, которого Василий прислал утешить скорбящего новопосвященного епископа. Содержание всех трех совершенно однородно: представляет изображение трудностей епископского служения вообще и в частности трудностей епископства Сасимского. Все три Слова весьма кратки по объему, представляя, по-видимому, плод импровизации, но дышат силой воодушевления и содержат немало прекрасных частных мыслей.
В Слове на посвящение проповедник такими чертами характеризует Василия как епископа: «Научи меня своей любви к пастве, своей заботливости о ней и вместе благоразумию, внимательности, неусыпности, покорности плоти твоей, с какой она уступила духу… при кротости — строгому обращению, при производстве дел — веселости и спокойствию… своим ратованиям за паству и победам, которые одержал ты во Христе. Скажи, на какие пажити водить стадо, к каким ходить источникам или каких избегать пажитей и вод; кого пасти палицей и кого пасти свирелью; когда выводить на пастбища и когда созывать с пастбищ; как вести брань с волками и как не вести брани с пастырями, особенно в нынешнее время… как изнемогшее поднять, падшее восставить, заблуждающее обратить, погибшее взыскать и крепкое сохранить… [чтобы] не стать худым пастырем, который млеко ест, волной одевается, тучное закалает или продает, а прочее оставляет зверям и стремнинам и самого себя пасет, а не овец…»[802]. В Слове, сказанном Григорию Нисскому, заслуживает внимания параллель: два брата-епископа Василий с Григорием и Моисей с Аароном.
Ознакомительная версия.