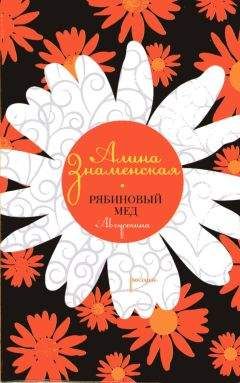Вот Августин и сам уже преподает риторику: сначала в Карфагене и Риме, а потом и в Милане. "Я обольщался сам и обольщал других... занимаясь "свободными" науками... служил суете. Ученостью снискал себе пустую славу у людей, так что мне даже хлопали, как в театре" (IV, 1).
Пустота тщеславного слова под стать внешним онёрам риторской школы времен Августина: "... Гадкая разнузданность школяров не знает преград: как взбесившиеся, они без всякого стыда врываются на уроки и переворачивают порядок, заведенный каждым наставником для пользы учеников. Свои преступные шалости они творят с такой удивительной тупостью, что закон непременно карал бы их, если бы не обычай, привыкший смотреть на них как на людей до того никчемных, что им разрешаются вещи, совершенно не дозволенные твоим вечным законом. Они мыслят, что ведут себя безнаказанно, тогда как наказываются той самой слепотой, с какой они действуют, и зло терпят безразмерно худшее, чем причиняют сами. Я чуждался этих нравов в годы своего учения, а вот теперь, когда сам вел занятия, становился их жертвой" (V, 8).
Помрачение, слепота вместо просветленного голубого взора, воздетого к небесам. Ученая педагогика злонравной темы, суеты нечистых цветов; никчемное слово, за которым ничего не стоит, - эхо пустого ведра, отзвук полой души, тяжелостопие греховного тела.
Таковы были эти языческие ученики. Но точно таким (по сути дела) был и учитель, "ставший их жертвой". Сам себе учитель, который только еще вызревал. Но так и не вызрел бы, не найдись учитель сторонний, ставший наставником для совершения чуда самопросветления; для преподания в один прекрасный день, час и миг урока самому себе - обращения себя-язычника в себя-христианина, себя-злокозненного в себя-добронравного. Началось - должно было начаться - упорядоченное дело по умению приготовить себя для восприятия ниспосланного обращения, которое потом станет - не оно, конечно, а его бледная тень - ординарным уроком для всех: опустошенное чудо во имя будущего миссионерского порядка, грядущих крестовых войн, пустое потому, что утратит лично найденное слово-жест как живое свидетельство безмолвного Смысла.
А пока Амвросий из Медиолана, искомый учитель Августина, преднайденный им всей его предшествующей греховной жизнью, мало-помалу, но трудно и мучительно, сбрасывающей коросту суеты, просветляющей собственную богоданную суть. Амвросий - "один из лучших людей на земле, благочестивый твой (бога. В. Р.) служитель, чья проповедь в ту пору щедро питала народ твой туком пшеницы твоей, елеем радости и вином целомудрия. Этот человек божий принял меня, как отец, и по-епископски благожелательно отнесся к моему прибытию. Я полюбил его сначала не как наставника истины, которую уже не думал найти в твоей церкви, а просто как человека, благосклонного ко мне. Я старательно вслушивался в его поучения народу, но не с тем вниманием, с каким должно, а как бы проверяя, заслужена ли слава о его красноречии, не слишком ли велика или мала она. Я приковывал свое внимание к его словам, а к тому, о чем он говорил, был не любопытен и небрежен. Я наслаждался приятностью речи, более ученою, чем у Фавста, хотя менее радующей и ласкающей слух своим слогом. По содержанию, однако, они несравнимы: ведь Фавст предан был ложному заблуждению манихеев, а Амвросий здравомысленно учил спасению. Но спасение далеко отстоит от грешников, к которым принадлежал и я в то время. Мало-помалу все же я, сам того не ведая, становился к нему все ближе" (V, 13). (Обратите внимание: учить спасению, тогда как дело по спасению глубоко личное дело. А учить - всех).
Ясно, что текст "Исповеди" написан уже обращенным, и потому реминисценции Писания ("Тук пшеницы" - Пс., 80, 7; "Елей радости" - Пс., 44,8) в главах до обращения вполне понятны. Но именно они как раз и вносят драматический непокой мятущейся души на пути к чуду обращения - главному, волевым образом преподанному, самоуроку. Они - дополнительные аргументы глаголящей вечности, и тогда до и после - слова без смысла. Урок о вечной вечности с помощью вечных слов - урок быть спасенным, то есть быть хорошим. Умение лично изготовить личный вечный текст из вечных божественных слов, встроенных в личную исповедь и потому ставших глубоко личными, хотя и обращенными ко всем учащимся всеми учащими. Изготовить текст - выплакать текст. Изготовление плача?! В свете этих слов красноречие Амвросия должно стать просветляющим душу ученика светоречием. Видимым словом - оглашенным светом-цветом правильной речи, здравомысленно "учащей" спасению.
Как же свершилось чудо спасения? - Или: как сказалось мучительное слово о самом себе к самому себе, проясняющее собственную душу в самосветящейся тьме божиего слова, прянувшего невесть откуда - как снег на голову?
Урок(?) личного умения спастись, просветляющего обращения...
Вот этот великий текст.
"VIII. 6. Господи, я исповедую имени твоему и расскажу тебе, помощник мой и искупитель, как ты спас меня от рабского служения заботам житейским и избавил от уз плотских вожделений, крепко державших меня. Я занят был обычными делами, но во мне росла тревога, и каждый день я воздыхал пред тобою. Я часто посещал твой храм, в то свободное время, которое у меня оставалось от работы, своим бременем доводившей меня до стонов. Со мной вместе жил Алипий, не имевший тогда казенной должности. Опытный юрист, он уже три раза занимал ее и теперь ждал, кому бы снова начать продавать свои советы, как я продавал словесное искусство, если только ему можно обучить. Небридий же уступил нашей дружеской просьбе и стал помощником у нашего общего приятеля Верекунда, медиоланского гражданина и учителя грамматики. Верекунду очень нужен был верный сотрудник, и он, по праву друга, требовал себе одного из нас. Не корысть привлекла к нему Небридия, который, если бы хотел, мог больше стяжать своей ученостью, а долг благожелательства, потому что он, милый и нежный друг, не желал пренебречь нашей просьбой. Он вел себя очень осмотрительно, остерегаясь знакомств с сильными мира сего, и уклонялся от всего, что нарушало спокойствие духа. Он искал свободы духа и досуга, чтобы иметь время расспрашивать, читать и слушать о мудрости.
Однажды, когда Небридия почему-то не было с нами, в наш дом, ко мне и к Алипию, пришел некто Понтициан: он был, как и мы, африканец и занимал во дворце высшую должность, а чего он хотел от нас тогда, я не знаю. Чтобы поговорить с ним, мы все трое сели рядом. Случайно Понтициана привлекла к себе рукопись на игорном столе возле нас. Он берет ее, раскрывает и находит апостола Павла, неожиданно для себя, конечно; ведь принял-то он ее за одну из книг моего ремесла. С улыбкой глядя на меня, Понтициан обрадовался и удивился тому, что такие и только такие книги лежат передо мной. Человек этот был христианин и очень ревностный, часто подолгу простирался он с молитвой в храме пред тобою, Боже наш. Я открыл ему свою привязанность к этим книгам, и он тогда повел беседу об Антонии, египетском отшельнике, чье имя славилось среди рабов твоих, нам же было неизвестно до того часа. Многое рассказывал Понтициан, повествуя нам, невеждам, о таком муже и дивясь нашему невежеству. Затаив дыхание, слушали мы о столь близких, чуть ли не современных нам "чудных делах твоих", засвидетельствованных в правой вере и вселенской церкви. И мы и они были изумлены; мы - тем, сколь велики эти дела. Понтициан - тем, что мы о них не слыхали.
Потом речь пошла о сонмах монастырских насельников, об их нравах, благоухающих пред тобою, о плодах, приносимых бесплодной пустыней. Об этом мы тоже ничего не знали. Не ведали и о монастыре в самом Медиолане, за городской стеной, где жило множество доброчестных братьев, которых наставлял Амвросий. Понтициан все рассказывал и рассказывал, и молча мы внимали ему. Наконец, и сам про себя рассказал он вот что.
Как-то раз в Треверах, после обеда, пока император смотрел зрелище в цирке, Понтициан с тремя товарищами отправились на прогулку в сады, прилегающие к стене. Здесь они случайно разлучились. Один пошел с Понтицианом, а двое других уклонились в сторону. Блуждая, эти двое набрели на хижину, в которой жили какие-то рабы твои, нищие духом, кто наследует царство небесное. В той хижине нашли они рукопись с житием Антония. Один из них взял и стал ее читать и, пока читал, изумленный, его все больше охватывало пламенное желание самому начать жить так же и служить одному тебе, покинув светские должности, а по должности оба они были чиновниками. Он поднял, наконец, глаза, посмотрел на друга и, горя священной любовью и благоразумным стыдом, негодуя сам на себя, промолвил: "Скажи мне ты, к чему мы стремимся, снося все наши тяготы? Чего мы ищем? Ради чего боремся? Мы станем друзьями императора, - вот и все, чего мы достигнем во дворце? А там не все ли зыбко, не все ли полно опасностей? А сколько опасностей нас ждет на пути к этой должности, столь опасной! Божиим же другом я сразу могу стать, как захочу". [Затем], весь в смятении от зачинавшейся в нем новой жизни, он снова перевел взор на страницы, продолжал читать и менялся внутри, где ты видел его. Ум его совлекал с себя все мирское, как выяснилось вскоре. В сердце его бушевали волны, читая, он издавал порою возгласы, порывая [со старым] и одобряя лучшее. Он был уже твоим, когда сказал другу: "Прочь отметаю прежние надежды! Богу решил я отныне служить и приступаю к этому сейчас, на этом самом месте. Можешь не подражать мне, но мешать не смей". Тот ответил, что и сам хочет быть соучастником столь высокого служения и столь высокой награды. Оба они уже стали твоими и воздвигали крепость, имея потребные на то средства - оставление всего своего и последование тебе.