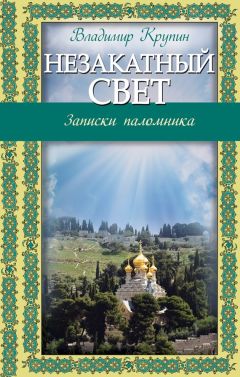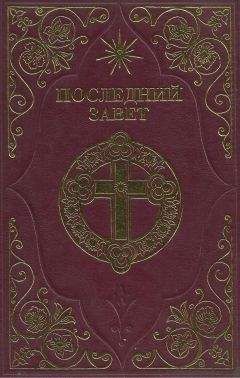Надо что-то делать, думал я, что-то решать. Надо как-то разорвать этот гастрономический круг. Еще я думал: может, они меня принимают за кого-то другого, за какую-нибудь персону-«вип»? Все расспрашивают. Что я такого знаю, что другой мог бы не знать?
Я решил для начала сделать что-то полезное, осознанное. Что? Носки постираю. И носовые платки. Но в ванной, на особой полочке, рядом со стопками полотенец, лежали разнообразные по цвету и толщине новые носки. А также разные по размеру и окантовке носовые платки. Но я, тяжко вздохнув, из упрямства, постирал свои. И носки, и платки.
Утром моя решимость, созревшая в недре восточных перин, подняла меня к действию. Хватит жить брюхом, а не духом. Грешное тело душу съело – такую пословицу, наверное, такой же, как я, обжора, сочинил. В минуту раскаяния и понимания, что телу мало будет материальной пищи, захочется ему и остального, я казнил себя, что даже не находил перед сном сил читать вечернее молитвенное правило. Прочел утреннее. Вырвал из чистого блокнота листок и начертал:
«Махмуд, Хамид, Гассан, Ханафи! Дайте мне чуть-чуть свободы, которую обещали в первый день. Рестораны – не страна. Дайте побыть на беспривязном содержании. Ничего со мной не случится. Иншаллах! Как Бог даст. Отдохните от меня. Да продлит Господь ваши долгоденствия и благоденствия, и да восславит!»
Я испугался, что Махмуд уже дежурит внизу, сбежал вниз по ковровым дорожкам, покрывшим мрамор лестниц, отдал записку вместе с ключом дежурному и выскочил на улицу. Посмотрел туда-сюда и пошел по ощущению. Тянуло, конечно, к морю.
И.К. Айвазовский. Панорама Константинополя. Деталь. 1856.
Я поневоле ощущал несущийся отовсюду призывный запах утренней выпечки, кофе, жареного мяса, кипящего масла. Весь город был пропитан ароматом приправ, пряностей. Куда бы я ни свернул, всюду пестрели уличные лавочки. Но я решил что-то съесть, когда выйду к морю. А вот и оно. Я озирался вправо и влево, соображая, в какой же стороне скорее кончится город, чтобы посидеть на пустынном берегу, а может быть, и выкупаться. В мусульманском государстве купаться нельзя, но я уйду подальше, чтобы не нарушать правила здешнего приличия. Да мне и не купаться, а только хотя бы погрузиться. Символически. В воды моря, которое столько раз пересекали апостолы. Передать привет южному морю от северных моих озер. Они же его тоже питают, не так себе.
На улицах не было ни одной собаки. В прямом смысле. Ни одной собаки. А людей было много. Но ни одного курящего. Ни одной женщины в брюках. Ох, как отдыхали глаза. Женщины, идущие навстречу, глядели вниз, но при мгновении встречи взглядывали так быстро и пронзительно, что через секунду хотелось оглянуться. Мужчины были улыбчивы и приветливы. Я тоже широко улыбался. И доулыбался: был схвачен и вовлечен под торговый навес, где всюду, на полках и на полу было навалом всякого товара. Мне бросился в глаза восточный кинжальчик в кожаном чехле. Такой загнутый, с медными бляшками на ножнах. Прямо «Шехерезада». Продавец запросил двенадцать денежных единиц. Убедившись, что я не понимаю по-английски, а по-немецки он не понимал, он показал на пальцах: двенадцать. Я показал, тоже на пальцах: десять. Он стал говорить быстро и страстно, и без перевода было понятно, что двенадцать – это очень дешево, что такая цена только из любви ко мне. «Хабиби, – говорил он, – хабиби. Двенадцать». Я молча стоял, потом повернулся уходить. Продавец сделал отчаянный жест, мол, грабь меня, грабь, пей мою кровь, и отдал за десять.
Я пошел дальше очень довольный и собой, и кинжальчиком. Но, как, бывало, писывали раньше, неприятности не заставили себя долго ждать. В витрине магазинчика мелькнул точно такой кинжальчик, и на нем была четко выведена цифра «пять». То есть меня крепко надули. И не то было обидно, что переплатил, но что обманули. Так как я недалеко отошел от места покупки, то я вернулся.
Дэвид Робертс. Торговцы шелком на каирском рынке. 1838
Фабиус Брест. Вид Константинополя. 1874
– На, – сказал продавцу, кладя кинжальчик на прилавок, – возьми. Не надо мне ни кинжала, ни денег. Тут недалеко, – я махнул рукой, – такая штука стоит… – И я показал пять пальцев.
Он отлично понял. Стал говорить, что у него много детей, что жить как-то надо и так далее.
– Ташаккур, – сказал я, – спасибо. – И пошел.
Араб что-то крикнул. Изнутри выскочили два здоровенных араба, лет по тридцать, и схватили меня под руки.
«Ничего себе, купил кинжальчик», – подумал я, вырываясь. Но они держали крепко, более того, потащили меня внутрь. Их силе сопротивляться было бесполезно. Меня втащили в служебное помещение. И… любезно усадили на низкую скамеечку перед столиком. Мой араб нес кофейник. Появились свежие булочки, масло, всякое кондитерство. Мы пили кофе. Араб восклицал: «Руськи! Гагарин!» Араба звали Хамид. Мы подружились. Я обещал заходить и отправился дальше.
Вышел на берег и пошагал вдоль него. Кончились высокие дома, пошли всякие виллы, строения, начатые и неоконченные. Дорога стала пыльной, пошли заборы с табличками «Приват», то есть частная собственность. Кончились и заборы, пошла натянутая в несколько рядов колючая проволока с прежними табличками «Приват». За проволокой бегали лающие собаки, явно голодные. Море было рядом, но за проволокой. Я шагал и шагал. И все было «Приват» и «Приват». Море-то, слава Богу, было не «приват», но как к нему подойдешь? Так и до Турции доберусь. Но там, конечно, тоже «Приват». Да-да. Все побережье было скуплено. День разошелся жаркий, я измучился. Остановился и взмолился морю: «Ты же рядом! Когда же будешь доступно?» Но не море мне отвечало, а приватные собаки. И хоть бы где один человек.
Наконец я заметил, что между двух опутанных проволокой участков есть прогал, в нем тропинка, по которой я устремился и, чуть ли не цепляя штанинами за боковые проволоки, вышел по сухой траве к берегу. Я посмотрел по сторонам – берег был пуст, но на самом берегу было такое количество отходов цивилизации, столько пластиковых бутылок, пробок, целлофана, что Робинзон, выплыв к такому берегу, был бы счастлив – он увидел бы явное присутствие человека. На отмели лежали остатки сетей, над ними летали крупные осы.
Я снял рубашку, брюки, разулся, сел на какой-то обрубок дерева, видимо, остаток лодки, и отдышался. Вода в море была стеклянно чистой. От мелкой ряби по камешкам на дне бегали мелкие пятна света, и камешки казались драгоценными.
Конечно, я боялся напороться босыми ногами на морских ежей или на маленького прибрежного ската, но, перекрестясь, прочтя «Отче наш», вступил в теплую, освежающую влагу. Вздрогнул от приятного озноба и долго, медленно, ступая по крупным камням, забредал в глубину. Камни кончились, пошел крупный песок, дно понизилось. Погрузился, даже заплыл, даже проплыл туда и сюда. Поглядел из моря на город. Ого! Он белел вдали так далеко, что не верилось, что я пришел сюда пешком. Ну, вот и это пройденное, «приватное» пространство, пока не нарушенное человеком, будет застроено всякими зонами дорогого и дешевого отдыха, и опять же к морю не подойдешь, только за деньги. Я повернул к берегу. Немного еще посидел в море, как в теплой ванной, и побрел одеваться.
Не хотелось уходить от моря. Ведь это придется проделать весь путь до города в пыли и под солнцем. Но куда денешься, пошел. Шел и рассуждал: «Тебя провели как мальчишку. Ничего ты не видел, кроме еды. Чреву служил. Оно вытеснило все остальное».
Уже послеполуденное солнце так нажаривало, что я рад был первой окраинной забегаловке, чтобы укрыться в ее тени. Кондиционеров в ней не было, вместо вентиляторов гудели мухи, но все-таки тень. Я попросил «кальте минералише аква» и протянул долларовую купюру.
Тут произошло то, что меня очень обрадовало. Араб закрылся от купюры как от чумы.
– Но! Но! Но! – закричал он. – Но! Но валюта! Доллар капут!
– Отлично! – сказал я. – Везде бы так. – Я достал местную валюту. Подошел нищий старик. С костылем, оборванный, заросший. Я отдал ему долларовую бумажку. Тут же возникли еще два просителя, потом еще. Я оказался в кольце смуглых, просящих подаяние мужчин. Я поднял руку. Хозяин забегаловки выбежал и стал кричать на нищих.
– Но! – сказал я ему. – Накормим их. Давай… – я посчитал их, – давай семь, чего там у тебя, семь порций. Вы все, – я показал на столик под изодранным навесом: – Сид даун плиз, зетцен зи плюх! Садись, артель!
Они стояли в нерешительности. Но хозяин что-то им велел, и они расселись. Нам всем принесли кушанье, которое показалось мне отвратительным. Соответственным, то есть бурдой, был и кофе.
– Руськи? – спросил хозяин, и щелкнув себя по горлу, показал под прилавок, мол, есть чего и для русских.
Я пошел в центр, к отелю. Нищих в центре не было, чистота. Меня радовали журнальные и газетные киоски – никакой похабщины, не как в Москве. К киоскам можно было подходить без чувства омерзения. Весь бело-красный, мокрый, встречал меня у отеля Махмуд. Его, беднягу, прямо трясло.