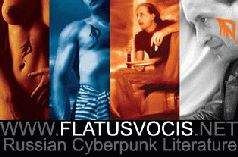Человек говорит, мир молчит. Что бы ни говорил человек, мир не нарушит своего молчания. Никакими усилиями человек его из молчания не выведет, словами не заговорит. Мир молчит, человек его хочет понять: расслышать. Это значит: на самом деле мир говорит; человек хочет своим словом ответить миру. От неудачи он расстраивается и силится фиксировать мир, устроить его. Мир не такая вещь, чтобы его можно было устроить. Миру надо уступить. Надо дать ему слово. Возьмет ли он теперь слово? Мы не знаем. Оптимизм здесь так же абсурден, как пессимизм. Кроме того, мир, возможно, давно уже взял слово. Он говорит языком поэзии и философии. Мы плохо понимаем их язык. Конечно, всякая человеческая речь возможна только потому, что есть целое, собирающее всё в себе. Высказывание — мера мира (Витгенштейн). Мир — начало нашей мысли. Но отсюда еще вовсе не следует, что нам осталось только взять слово, чтобы сказать о нем и о себе. Взятое нами слово почему‑то не звучит. Нам тогда кажется, что мы мало взяли. Мы тогда берем слово еще раз, говорим и говорим. Ошибкой, возможно, было то, что мы вообще его взяли. Лучше было дать. Дать слово миру. Слово звучит по–настоящему только тогда, когда мы его не берем, а отпускаем.
Миру принадлежало наше первое слово. Последнее слово тоже будет за миром. Мы ведь остаемся в нем и тогда, когда его не видим, и когда его в нас нет, и когда мы от него отвернулись. Когда‑то мы наивно не отличали свой голос от его согласия. Потом вдруг заметили, что разногласим с ним и между собой. Теперь мы никогда не придем к согласию. Нельзя быть тому, чего нет. Мы никогда не согласимся. Ни с чем, ни с кем. И не потому, что мы нигилисты или упрямимся, а потому, что согласие мира мы слышали так рано, что ни в чем, что позднее того — раннего, — мы его уже не услышим. Мы можем слышать его только рано, но сейчас уже поздно. Раннее прошло. — Или, может быть, раннее никогда не уходит? Оно присутствует при всём позднем как то, благодаря чему мы знаем позднее как именно позднее. В самом по себе позднем, забывшем то, из‑за чего мы признаем его поздним, напрасно искать согласий. Согласий тут уже не бывает, бывают только соглашения. От соглашения до согласия так же далеко, как от картины мира до мира. Никакое соглашение мира не вернет. Согласовыванием только узаконивается разлад, прописывается на постоянное жительство. В нежелании заглаживать разлад раннее согласие еще как‑то присутствовало своим кричащим отсутствием, в согласовывании — уже нет.
Мы оставили, потеряли себя в раннем согласии мира и теперь не можем себя найти. Что невозможно в настоящем, мы обещаем себе в будущем. Обещанное нами себе будущее не может стать настоящим. В будущем нам мечтается прийти как раз к тому, от чего мы уходим. Мы уходим со временем от настоящего и как‑то надеемся таким путем к нему вернуться. Но когда прошлого уже нет, место раннему может быть только в настоящем.
Это окончание нашего разговора о языке философии больше похоже на увязание в новом начале. Иначе и не могло быть. Мы говорим по–русски, поэтому наша тема превратилась бы в заглазные осведомления неведомо о чем, если бы мы не сумели увидеть язык философии в русском языке. Проблема вовсе не в том, чтобы, как это иногда формулируется, русская философия перестала быть русской философией и стала философией в России. Искусственной задачей было бы и создание внутри русского языка так называемого философского стиля. Речь вовсе не о том, чтобы повести русскую мысль и русскую словесность на завоевание каких‑то новых рубежей. Наше дело понять (принять) то, что есть. В принимающем понимании, пусть горьком и растерянном, всё равно будет больше философии чем в классификации, проектировании и конструировании. В отношении задач и целей с уверенностью можно сказать пожалуй только одно. Нашей мысли пора быть настолько нашей, чтобы быть мыслью просто. Нашему языку пора уже давно быть языком не русской философии, не философии в России, а философии вообще.
Он показывает нам здесь путь. Общество (общину) он называл и всё еще называет миром (когда хотят, например, взяться за дело всем миром). Мы имеем право сказать: мы не отдельная нация, мы мир. Общество становится миром не потому, что захватило большие пространства или запасло у себя так много всего, что может закрыть границы и управиться без других. Мир не нагромождение вещей. Народ становится миром тогда, когда в нем достаточно широты, чтобы допустить всему быть в себе тем, что оно есть. Здесь кто‑то возразит, что как раз у нас остаться собою было всегда всего труднее. Мы страна уламывания. На это справедливое замечание можно ответить одним высказыванием Льва Карсавина. Не обязательно считать, что оно безусловно верно, но на его стороне опыт говорившего, который не стоял в стороне от названных им вещей. Он сказал: «Тогда мысль и развивается, тогда и становится свободною, когда ее всемерно угнетают и преследуют».
Философия — мысль, отпущенная до пределов внимательного понимания. Она впускает в себя мир, прислушивается к нему и дает сказаться его тишине. Заглавие «язык философии», как уже говорилось, тавтология. Философия и есть язык.
Она поэтому заранее уже имеет место в мире. Это место она должна найти. Первый и необходимый, хотя еще и не достаточный шаг в таком искании, — оставление свободы слову.
Бибихин В. В. Мир. — «Философская и социологическая мысль», 1990, №. 2, 5, 8, 12. Также В. В. Бибихин. Мир. Томск: Водолей 1995.
«[…] jene geistige Kraft, die sich in ihrem Wesen nicht ganz durchdringen […] lässt» (Humboldt W. von. Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues, § 3).
Eco U. La struttura assente. Milano, 1968, p. 46.
Ibid., р. 322.
Ibid., р. 324
Ibid., р. 379.
Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. — В кн.: Гумбольдт В. фон. Избр. тр. по языкознанию. М., 1984, с. 82.
Бибихин В. В. К онтологическому статусу языкового значения. — В кн.: Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 231–243.
«Im Satz wird eine Welt probeweise zusammengestellt». — In: Wittgenstein L. Notebooks 1941–1916. Ed. G. H. von Wright and G. E. M. Amscombe. Oxford, 1979, p. 41; 7.
Ibid., р. 84. Ср.: Витгенштейн Л. Логико–философский трактат, 5.63.
Robinson I. The new grammarians’ funeral: A critique of Noam Chomsky’s linguistics. Cambridge, 1975, p. 86.
Чаадаев П. Я. Отрывки и афоризмы. — В кн.: Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1987, с. 167.
Для трехсложных слов метатеза скорее правило чем исключение. Так, наша гирлянда по–испански hirnalda; муравей — латинское formica, древнеиндийское vamrá, древнеисландское maurr (перестановки mrv, vrm, vmr, mvr). Пусть родство слов голова и бокал остается догадкой; достаточно того, что латинское testa не только горшок, но и чаша. Понятно, что как раз в иррациональном случае метатезы возможности научного этимологического анализа ограниченны. Тем не менее нет причин не обращать внимания на то, что три слога в одном корне для языка — как бы слишком много, и он перестает следить за соблюдением их порядка.
Потебня А. А. Мысль и язык. — В кн.: Потебня А. А. Слово и миф. М. 1989, с. 166, 176, 177.
Там же, с. 97.
«Die Sprache ist die allumfassende Vorausgelegtheit der Welt» (Gadamer H. G. Begriffsegeschichte als Philosophie: Kleine Schriften. Bd, 3. Tübingen, 1972, S. 237–250).
«Die Welt, die Welt, ihr Esel! ist das Problem der Philosophie, die Welt und sonst nichts!» — Цит. по: Schirmacher W. Schopenhauers Wirkung: Ein Philosoph wird neu gelesen. — In: «Prisma», 2/1989, S. 25.
Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1990, с. 176–179.
Вöll Н. Die Sprache als Hort der Freiheit. — In: Der Schriftsteller Heinrich Böll. Ein Biographisch‑bibliographisches Abriß. Köln, Berlin, 1966, S. 18.
Самосознание культуры и искусства XX века. М., 2000, с. 419–420.
Jaspers К. Die großen Philosophen. Bd. 1, S. 634.
Heidegger M.; Fink E. Heraklit: Seminar Wintersemester 1966/1967. Frankfurt a. M., 1970, S. 45.
Следующий шаг в толковании надписи на фронтоне дельфийского храма Аполлону см.: Бибихин В. В. Узнай себя. СПБ: Наука 1998.
Неgе1 G. W. F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 1. Bd. Leipzig, 1971, S. 424.