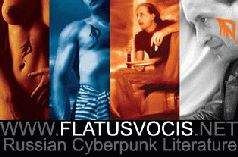Отсюда становится яснее, почему сомнение стоит у Розанова рядом с пониманием. Понимание — это цельное знание, или наука, которая прежде всего имеет дело с целым. Целое мы никогда не видим. Мы видим всегда только части. Напрасно думать, будто части сами собой складываются в целое. Цепь вещей кажется целой только для подслеповатых людей, говорит Розанов, острое зрение начинает видеть разрывы. Он не делает того шага наобум, той «глупости» или, вернее, того «преступления», чтобы заслонить связной картиной мира сам мир. Легкомысленные целеполагания хуже чем глупость, они преступление. Мир загадка. Мы стоим перед фактом его существования, никогда не охватывая его в целом. Стату с целого у Розанова: оно не наблюдается, но без него ничего не нужно. Целое ведет нас как единственная заслуженная цель. Оно не принадлежит к числу существующих или могущих существовать вещей. Целое дает о себе знать в сомнении, с каким мы относимся к предлагаемым нам образам целого. Мы в них сомневаемся — значит каким‑то знанием знаем, на что целое не может быть похоже. Целое присутствует в нашем искании его. Розанов отпускает на полную волю сомнение, чтобы во всю меру дать присутствовать в этом сомнении отсутствующему целому. Потерявший сомнение ум не заметит разрывов в цепи вещей; не распознав нецельность, он примет за целое цепь. Сомнение всегда право, разоблачая лживое целое в свете того отсутствующего, которым живет понимание.
Как от жизни нет пути к пониманию, которое отдельно и внезапно, так от цепи вещей к целому. Его не вычислить из вещей, которые всегда части. Только в моем сомнении, что подсунутое мне вместо целого заслуживает такого названия, целое присутствует как само такое сомнение. На целое нельзя указать: вот оно, но только в его свете я опознаю часть. Способ существования целого странный. Он такой же, как способ существования мира. Оба никогда не в том, на что я укажу; они скрыты в моем указывании, опережают мое указывание и делают его возможным. Одновременно дарятся мир пониманию как его начало и понимание — жизни как ее смысл. В понимании существо человека. Мир, понимающее понимание и существо человека имеют одно начало. Розанов говорит: понимание начинается с «прикосновения», в котором обнаруживает себя «существование». Совершится ли «прикосновение», мы не знаем. Ничто не велит ему быть с необходимостью. Но совершенно точно известно — так сказать, с математической точностью, — без чего понимание не может произойти: без готовности человека к тому, что Розанов называет бескорыстием, не житейским, а безусловным, в том смысле, что никакие нужды, ни личные, ни общественные, ни в чем, ни в самом малом не отвлекут человека от того нечеловеческого понимания, которое хочет совершаться в нем.
«Погибнет или не погибнет человечество […] ни человеческое счастье, ни человеческие бедствия не придадут бытию целесообразности, если в нем нет ее, ни отнимут ее, если она есть в нем. Целесообразность в мире есть факт внешний для человека», т. е. это вещь, с которой имеет дело только понимание как существо человека, совсем отдельное от того, что с человеком случается или не случается в области его жизненных интересов. «Внешний для человека» не означает здесь безразличный; это значит только, что туда, где для человека всё решается, человеку с его пожеланиями и нежеланиями, выгодами и расчетами доступа нет. Розанов говорил и еще скажет, что человечество держится на этом «внешнем», питаясь только тем смыслом, который дан в понимании, без власти изменить что бы то ни было по своей воле. «Целесообразность в мире есть факт внешний для человека, не подчиненный его воле, и признание или отрицание этого факта есть дело исключительно его познания. Да и не согласится человечество обмануть себя из малодушия, — признать то, чего нет, чтобы сохранить за собой жизнь. А если в тяжелую минуту предсмертного томления оно и сделает это, оно не вынесет долго обмана: тайное сознание, что нет того, ради чего живет оно, заставит людей по одному и не высказываясь оставлять жизнь».
Розанов говорил о себе, что в нем есть что‑то нечеловеческое, чудовищное: задумчивость. Для жизни она сделала его непригодным. Но для более долгосрочных предприятий? Еще раз из книги о понимании: «Исследование должно быть направлено не против частных заблуждений и не против частного зла, становящегося в данный момент нестерпимым — как это всегда бывало [т. е. всегда оказывается, что именно сейчас зло сделалось настолько нестерпимым, что не оставляет возможности для мысли, требует немедленных ответных мер]; но, временно оставляя в стороне всё нестерпимое, оно должно вестись в систематическом порядке и должно быть доведено до конца».
Европа вышла из Средних веков не столько национально–культурно–политическим образованием, сколько историческим предприятием. Ренессансом, замыслом апокатастасиса, восстановления целого мира в его истине. Что бы ни говорили посторонние наблюдатели, Европа с тех пор и до сего времени в своем существе — не одна из культур, а продолжающаяся память о той предельной задаче.
У нас в XIX в. Карамзин, Пушкин, Чаадаев показали, что поэзия и мысль России присоединились к начатому Европой восстанию. Россия, разнонациональная, как и Европа, с самого начала была не нацией, а историческим начинанием. Дело всеобщего восстановления так или иначе у Европы и России одно. Ренессанс, и это всего яснее видно у Розанова, был не просто перенят Россией, а укоренился в почве русского мира. Россия, какая она есть и с самого начала была, угадала себя в историческом предприятии возрождения как обязательный или даже ключевой момент. Из‑за этого воссоединение с Западом приняло у нас черты ревнительства, соревнования, т. е. убеждения, что без нас нельзя, без нас не вся правда.
Тут слишком большая тема, чтобы к ней легко было подойти даже издали. Разрешим себе одно осторожное предположение. Особенность нашей цивилизации, если оставить пока в стороне огромное дело ее подробного осмысления, сказалась с самого начала и продолжает до сих пор давать о себе знать в том, что за человеком не признается право на самовольное, по его человеческому разумению, устройство в мире. Дело тут, по–видимому, не столько в недостатке индивидуализма или чувства личного достоинства, во всяком случае не в первую очередь в них, сколько в другом, хотелось бы сказать, мудром знании, что никакое самоустройство человека на земле его в конечном счете не устроит. Отсюда и всегдашняя слабость нашего самоуправления, и наша уникальная централизация, построенная на подчеркнутой непритязательности местной общины. С тем же связана и редкостная в сравнении с другими большими странами одинаковость образа жизни и языка на всей территории России. Уважение к целому, стремление к единству возникли сразу при образовании государства и, позволю себе еще одно предположение, едва ли не по отталкиванию от прямо противоположного типа правления. Там, откуда, по преданию, была приглашена власть в Новгород, навыки местного самоуправления были, наоборот, самыми прочными в Европе или даже в мире.
Воздержание от самоустроения произошло у нас явно не на почве несамостоятельности и неспособности отдельного хозяина. Как раз умение нашего крестьянина не зависеть даже от, казалось бы, обязательных экономических связей, обеспечить себя и выжить в нечеловеческих условиях, сохранив человечность, имеют себе тоже мало равных. Наша государственность воссоздавала себя на протяжении столетий потому, что народ ждал и надеялся, оставляя простор чему‑то такому, что должно было быть надежнее человеческой изобретательности. Как на Западе центральная власть держалась и держится устойчивостью местного порядка, так у нас — вольным или невольным согласием общества, что устроение земли больше чем человеческих рук дело. Мир должен устроиться по–божески (безусловно) или никак. Оставим пока вопрос о том, сколько здесь от Востока. Для Востока у нас опять же слишком мало устроенности. Это не значит, что нашу неустроенность можно возводить в достоинство. Она не устраивает прежде всего нас.
Всякая власть, не претендующая быть более чем местной, видит себя у нас даже в собственных глазах неуместной и готова уступить более центральной. Носителем власти остается в конечном счете тот, кто не разоблачает или по крайней мере не сразу разоблачает себя как всего лишь агента человеческих частных интересов. В общественное устройство тем самым встроена метафизика, в том смысле, что для нее в этом устройстве заранее отведено заметное место. Эта встроенная метафизика имеет черту отрицания способности человека устроить на земле своими средствами самого себя. Ее оборотная сторона — нигилизм. Правоправность самоустроения не только своего, но и других народов не признается до конца. В той мере, в какой кто‑то хочет просто сам устроиться, он себя в наших глазах уличает.