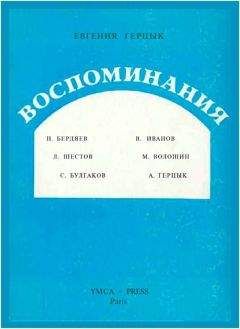В этот первый вечер они слились для меня в одном нераздельном впечатлении. Но вот я начинаю воспринимать их и порознь. Через день Вяч. Иванов пришел ко мне, к подруге моей, у которой я остановилась. Сидит в гостиной на ломком модном стулике как на жердочке. Речь необычная по глубине и изысканности замечаний. Обаятельный, но и немножко смешной, несовременный облик в этом сюртуке со свисающими фалдами. Уж не дедушкином ли? Позже я привыкла к тому, что у них все дедушкино: и доха, в которой зимой выезжал зябкий Вяч. Иванов, и обитая красным мебель, и старинное готическое кресло. Дедушка этот – отец Лидии Дм., доживал свой век у них в Женеве. И какой же уют давало призрачной «башне» все это дедово добро!
При дневном свете вижу почти ребяческую розовость лица Вяч. Ив., золотистая клинышком бородка, золотистые космы волос – все мягко, только за очками безбровый взгляд остр и зелен. Но не тогда, когда читает стихи – тогда затуманивается. Впервые слышу его чтение – певучее, чуть-чуть в нос, с католическим распевом. Стихи о солнце, о солнечности – одно, другое… Солнце – сердце. Сердце – солнце. Характерным для него жестом (иерейским) откидывает левую руку, ладонью к собеседнику.
От себя я возгораюсь,
Из себя я простираюсь
Уподобься мне в распятье,
И гори, гори, гори!
Но как устоять в зените? Не неизбежен ли срыв? Сквозь слепящую лучистость и тогда уж до меня донесло ноту истомы и смуты.
В другой раз пришла ко мне Лидия Аннибал, сидела долго, немолчно говоря, и обо всем сразу; о детях, оставленных пока в Женеве, о своем прошлом и о новых, стремительно завязавшихся отношениях. Повесть о её дерзкой молодости жадно запоминалась: забрав троих детей, она бежала от первого мужа за границу. С нею три девушки, не то прислуги, не то воспитанницы. Девушки не знали ни одного заграничного языка, садились вокруг неё на полу в итальянской отдельной комнате, пели русские песни. И среди них она – золотоволосая, жадная к жизни, щедрая. Такой она встретила узкоплечего немецкого школяра – мечтателя, втихомолку слагавшего странные стихи и взяла его, повлекла, поволокла. И вот – поэт Вячеслав Иванов. Так постепенно вставало передо мною их прошлое. На столе ваза с апельсинами. Непривычное петербургское солнце, скользящее с её золотящейся курчавой головы (оба одной масти), легло на них – на тяжелые, горячие. Лидия Дм., играя ножичком, глотает дольки и говорит, говорит. Не тогда – т_е_п_е_р_ь_ только слышу за её безудержными излияниями тревогу, не знающую куда себя бросить. Отсюда и декадентские писания, рискованность её жизненных выходок. Но как различны источники: у русского декадента чаще от опустошенности, от скудности крови, у неё – от разрывающего её жизненного избытка.
Не зря я обмолвилась «русским декадентом». Ивановы русские – всеми кровями, ведь аннибаловская, смуглая, Пушкиным усыновленная России; Вяч. Иванович природный москвич, из кривеньких деревянных переулков. Но долгая эмиграция создала им другую предисторию, чем та, что была, скажем, у Белого и Брюсова. В блужданиях – в пространстве и во времени – по Европе, по востоку, до капли избыли они русскую сумеречность, порастеряли связи с хилой русской журналистикой 90-х годов. Что им до ругани, которой Буренин встретил первых символистов? Но не в одних блужданиях дело – позади у Вяч. Ив. напряженно рабочая жизнь, закал труда, – ведь в молодости он, прирожденный лирик, больше был ученым и исследователем. Отсюда же от долгой оторванности и радость их русским встречам, родине, праздничное восприятие её. Во всех стихах В. И. того периода о России, о Москве, звучит нота возврата, свидания после разлуки, сладостная и немножко отчужденная:
Посостарилось злато червонное,
Сердце сладко горит полоненное…
Вольное ль вновь приневолится
Сердце родимой темнице?
Как по-иному – глубоко, ожесточенней чувствовали в те годы свою землю, и любимую, и ненавидимую, Блок, Белый. Должно быть нельзя безнаказанно сбросить с плеч бремя. Освободив и окрылив В. И., эмиграция вместе с тем породила и пустоты в его творческом сознании. У него есть ряд стихов ещё заграничных, связанных с японской войной – бледные славянофильские перепевы, сладковатая водичка на осадке когда-то крепкого московского зелья. Почти так же ненужно и отвлеченно прозвучали и отклики на 905 год, писанные им уже в России.
… В кругу безумных, темнооких
Ты золотою встал главой.
Слегка согбен, не стар, не молод,
Весь – излученье тайных сил,
О, скольких душ пустынный холод
Своим ты холодом пронзил!
(Блок)
Искуситель для других – каким же он был искусителем для самого себя. Завывание Вакха, потрясение тирсом для него не пустая игра. Свидетельство этому его замечательный лирический цикл «Эрос». Он вправду наколдовал себе виденье страшного и сладостного демона.
Облик стройный у порога…
Нет дыханья… света нет…
Полу-отрок, полу-птица
Под бровями туч зарница
Зыблет тусклый пересвет…
«Лирика – не развлечение, – сказал как-то в белее поздние годы Вяч. Иванов, – тот, кто испытывал лирическое волнение, знает, что оно иссушает все силы, преследует, испепеляет». И вправду, каким опустошенным показался он мне, когда я увидела его через год после первого знакомства. Осеннее дерево с ободранной ветром листвой. Даже кольца волос не пушились, а жалостно липли к вискам. Лидия Дмитриевна лежала в больнице, после операции. Среды отменены. Он скитался один по опустелым комнатам. Ухватился за меня. Не отрываясь читал мне все написанное им, читал «Ярь» Городецкого, тогда шумевшую в кругах модернистов – новое кряжистее знамя символизма. «Нет, вы должны увидеть его». И на другой день ко мне с каким-то поручением зашел длинноногий студент с близко-близко, по-птичьи сидящими глазами и чувственным ртом. Мы постояли среди комнаты друг против друга – на что мне этот паренек – тронули одну тему, другую – я-то уж ему совсем ни на что! Но вечером пришел ко мне Вяч. Иванов и с взволнованным изумлением: «Знаете, что он сказал? Что вы похожи на меня, как сестра родная». И вижу – уж заиграл хмель. «Сестра!» Я не видела между нами физического сходства, но вот эту беспреградность, как с кровно близким и в то же время странно волнующую, почувствовала с первой встречи. Непонятны иногда родственные сближения. Помню, когда позднее, познакомилась с В. И. моя мачеха, недавно потерявшая любимого мужа, она в слезах, взволнованная вышла из комнаты: так он напомнил ей моего отца – не чертами лица, а чем-то неисследимым – движением руки с папиросой, наклоном головы, ритмом дыхания… Вяч. Ив. нередко говорил мне, что я понимаю его с полуслова и до глубины, не мыслью, а инстинктом, – говорил это с умиленной благодарностью, а то и с гневом, потому, что находил во мне только зеркальность, только двойника своего, а не ту другую силу, родную, но перечащую, о которую выпрямились бы прихотливо разбегающиеся волны его мысли. Я же теряла себя в нем.
– Где же вы, sorellina? {Е. К. Герцык была близким другом В. И. особенно в годы 1906-1909. В. И. звал её «сестра» – sorella. (прим. О. А. Шор.)} – с ласковым укором – что вы таете у меня лунным туманом?
Не было у него для меня другого имени, как сестра, sorella. Так случайно этот, на миг зашедший ко мне Городецкий, побратал нас накрепко и надолго. Зыбок круг нашего братства – разбивая и мутя его, временами врывалась и страсть, и чувственность, и вражда, но самая глубокая в нем нота была сестра.
… и вот – Сестра.
Не знал я сестры светлоокой;
Но то, то была – Сестра.
…
И нити клуб волокнистый
Воздушней чем может спрясти
Луна из мглы волокнистой, – Дала и шепнула «прости!»
В даль тихо плывущих чертогов
Уводит светлая нить -
Та нить, что у тайных порогов
Сестра мне дала хранить.
(Песни из Лабиринта)
Пусть это миф. А явь – как часто безобразна, жестока, слепа, жалка. Но правда – миф сердца, а не уплывающий бред дней.
Таков итог наших переменчивых на протяжении лет отношений. Но сперва шло радостное настроение. В первый раз привести к нему сестру мою, глядеть, как он слушает её стихи, слушать, как он толкует их, и в них – её, и через неё – меня. От встречи до встречи открывать, что этот человек для других не-понятнейший и жуткий, мне – всех ближе, всех проще… Это было перед расставанием весною 907 года – недолгие горячие дни сближения нас четверых – Ивановых обоих и нас, сестер. Казалось, им опостылели декадентски-оргиастические вихри, крутившие на их средах. «Ох, уж эти мне декаденты с Апраксина рынка!» – мотая головой говорила Зиновьева-Аннибал. Она обожглась, она устала. Повлеклись к работе. Затевали с осени издание журнала – художественно-философского органа символизма, отмежевываясь от эстетствующих «Весов». И «Московские сестры» должны были участвовать и в творческой, и в технической работе. Нехотя отпускали нас. «Смотрите, не засиживайтесь в своем Крыму». Так мы расстались.