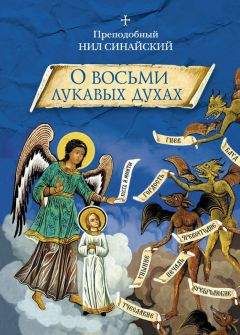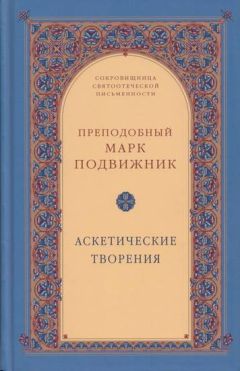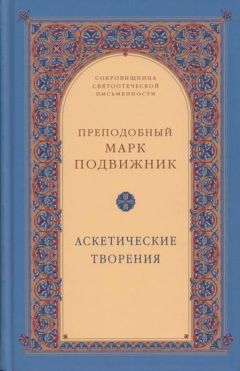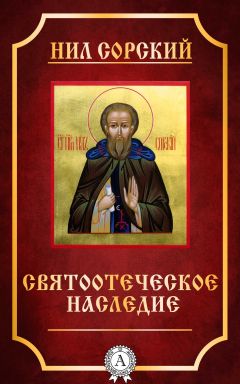Глава 15
Посему, когда Пятиградие было сожжено небесным13 огнем, Ангел сказал праведному и попечительному о странноприимстве Лоту: Спасая спасай твою душу: в горё спасайся, да не когда купно ят будеши (Быт. 19:17): не о погибающих, но о своем паче спасении заботься. Ибо, сказав: Не озирайся вспять (Быт. 19:17), научил не обращать никакого внимания на погибающих, потому что, без сомнения, было бы несправедливо желать погибнуть с погибающими и даже прилагать о других попечение, равное попечению о себе, когда сострадание, не принося никакой пользы наказываемым, причиняет величайший вред сострадающим, вредя самому спасению, желаемому всеми людьми в совокупности. Ибо хотя человеколюбие боголюбезно и нам прилично и каждый должен другому давать полезный совет, стараться о нем и желать ему добра, [Col. 1080] потому что такое расположение подлинно похвально, однако же в крайних случаях стараться о себе меньше, нежели о других, не только неодобрительно, но даже достойно великого осуждения. Посему тому, кто прилагает великое попечение о своем состоянии, в безмолвии обучает нрав свой благочинию и свободно о многом собеседует с Богом, — тому, как ведущему более трезвую жизнь, почему же не быть в большей степени способным благоугождать Богу в сравнении с тем, кто вовсе не имеет времени наблюдать за своими помыслами или за скрытыми и при занятии внешним непознаваемыми страстями?
Или не скажем, что Мария лучше Марфы? Предпочтя ее за неотвлекаемость той, которая заботилась о телесном и многозаботливом служении, совершавшемся для успокоения плоти, Господь говорит не Марии, но полагающей, будто бы делает нечто великое, и потому имеющей нужду в совете, и исправляет ошибочное ее предположение, сказав: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отниметсяунее (Лк. 10:41–42). Хотя беспокойство Марфы происходило от усердия услужить Ему, но не похвалена она за сие усердие, а заслужила упрек за то, что не была, подобно Марии, внимательной к слову и пользе своей души, а пеклась о том, чтобы не было у нее недостатка в чем-либо, потребном для дорогого угощения, и была предложена щедрая, гостеприимная трапеза. А что Господь, намереваясь осудить неуместную рачительность, двукратно произнес имя и сказал: Марфа, Марфа, может быть, сие было жестом того, кто изъявляет сожаление и кивает головою при виде напрасного, но почитаемого необходимым беспокойства, ибо знал Господь, что преуспеяние в благочестии, оставляемое Марфою в нерадении, полезнее того, о чем она старалась.
Так и левиты предпочтены были всему народу как свободные от всякого житейского занятия, по неразвлекаемости чистым помыслом служившие Богу и совершавшие по Закону великую молитву, чтобы внимательностью и чистотою освятить себя Богу; отказавшиеся от внешних беспокойств, внутри оград святого тогда храма упражнялись они в том, что служило к чистоте, о которой старались, будучи уверены, что безмолвие делает для них хранение чистоты сей нетрудным. Свидетелями же вреда от внешнего служат сын первозданного Авель и дочь патриарха Иакова Дина — один, коварно убитый Каином на поле, а другая (когда безвременно вышла посмотреть на туземных жен), растленная Еммором. [Col. 1081] Чего не потерпели бы они, если бы в покое пребывали дома, возлюбив безмолвие, безбедное для всех, даже и для совершенных, а наипаче для несовершенных, потому что в одних непоколебимым сохраняет оно навык, приобретенный упражнением, а других упражнением сим возводит к преуспеянию! И Иеремия, советуя не выходить в поле, понеже мечь вражий обитает окрест (Иер. 6:25), и Петр, взывая: Супостат наш диавол ходит (1 Пет. 5:8), свидетельствуют о вреде от внешнего. А советующий укрыться от по-губляющего, когда говорит: Затвори двери своя, укрыйся мало елико елико, дондеже мимо идет гнев Господень (ср. Ис. 26:20), и живый в дому (Быт. 25:27) Иакова, и повелевающий пришедшего сына убийцы стиснуть во дверех (4 Цар. 6:32) провозглашают безопасность внутреннего, ясно показывая, что жизнь одних по общему признанию легко подвергается вреду, а жизнь других несомненно безбедна.
Так, а не иначе угодно истине. Ведущим жизнь отшельническую нужно упражняться в единоборстве и вступать в брань с врагом безоружным, потому что оружия страстей — дела. А у живущих в городе среди многолюдства много отовсюду и всегда нападающих, которые все вооружены всякого рода воинским оружием и, как скоро могут уязвить, наносят смертельные раны. И неразумно со всем усилием уготовлять себе жизнь, исполненную страхов и опасностей, когда есть возможность вести ее без робости и страха и возможную безопасность сделать необходимою. Ибо кто уклонился от злоумышленников и поставил себя вне общения с ними, тот не приобретает ли наконец смелость, не делается ли беспечален, не ожидая уже ниоткуда никакого вреда? А кто живет вместе с ними, тот не бывает ли в непрестанном страхе, всегда и отовсюду ожидая козней, потому что все и во всякое время готовы со всем тщанием искать случая сделать зло как враги врагу. Посему неужели жизнь среди обидчиков лучше жизни мирной и безмятежной? И неужели путь, на котором разбойники и варвары, казался и кажется кому-то предпочтительней, нежели путь, которым можно идти безбоязненно? На одном пути есть убийцы и хищники и на нем, конечно, можно или быть убитым, или, по крайней мере, лишенным одежды, а другой путь свободен от подобного, не приносит вреда путешественникам и путешествие делает беспечальным: путники и имение свое сохраняют неразграбленным, и сами совершают путь приятно и весело.
Другие, уклоняясь от негладких и неудобопроходимых стезей, хотя они и коротки,
отыскивают стези гладкие и проходимые многими, хотя они длиннее и, [Col. 1084] чтобы пройти ими, нужно больше времени. И почему путь крутой, затруднительный, длинный, опасный, на котором звери нападают, кормятся разбойники и много силков, сетей, засад, случаев потерпеть вред, признается лучшим, чем путь сносный, короткий и ровный? Там привлекает женское лицо, возбуждают соревнование, богатство и властолюбие, уязвляет ярость, иное возжигает похоть, одно доводит до восхищения, другое — до уничижения, одно производит уныние и замешательство, другое — радость и благодушие, одно причиняет удовольствие, а другое — неприятность; и как же после сего страстям, возбуждаемым и волнуемым ежедневно видимым и слышимым, не превратиться когда-либо в яркий, высоко вздымающийся пламень, при непрерывном упражнении не сделаться неискоренимым навыком, и можно дойти до того, что перемена жизни будет трудна или, может быть, и вовсе невозможна? Ибо привычка, связывающая не слабее уз, не дозволяет отступить, уступает несколько порыву, но тотчас снова влечет к себе желающего оставить ее. А удалившийся от дел житейских, отвращающий чувства от всего чувственного и покоящийся в себе самом если и имеет страстные воспоминания, то скоро уничтожит их, потому что время, с которым все ветшает, и их мало-помалу приведет в забвение. И если не допускал он в себя этих кумиров, воздвигающих брань, то борьба у него — с простыми, естественными воспоминаниями, которые нетрудно преодолеть и победить, потому что мысль легко их сменяет и без труда отвращается от них, когда враг не может уловить ни одной из внешних приманок.
Сим обыкновенно враг умащает страсти и для подвизающихся делает борения мучительными и трудными. Ибо похоть не имеет такой силы, когда нет у нее пищи, [силы,] какую приобретает, когда есть то, что питает похоть; также и ярость не так одолевает, когда нет ничего раздражающего. И сластолюбие тогда возбуждается, когда нравящееся видом своим возбуждает желание. Бессильны и слабы движения страстей, когда не тревожит их воображение, пробуждающее как бы усыпленную мысль, и не удерживает при себе помысла бодрствующим и неизменным. Так, например, лицо, нравящееся своею привлекательностью, удерживает на себе внимание плотолюбивого глаза, не позволяя никуда обращать его, не давая и мысли свободно перенестись на что-либо другое, хотя бы кто-то и захотел подавить [это, оно] наслаждением побеждает усилие желающего отвратить око. Но для того, кого тревожат одни воспоминания, освобождение от [них] удобно и устранение [их] крайне легко. Ибо [с помощью] поучения и упражнения в словесах духовных и усиленной молитвы ум устраняется от неблагоугодного Богу и обращается к требующему рачительности по Богу, преуспевая в сем последнем и предавая забвению первое.
[Col. 1085] Но даже всегда трезвенному помыслу невозможно совершенно смежить глаза для видимого, заткнуть уши для слышимого, отклонить производимый ими вред, ибо много повсюду сетей, от которых уберечься трудно. И ступившему в грязь невозможно не замарать ступни, и живущему в заразном месте — не пострадать от болезни, к какой располагает окружающий воздух. Так, невозможно не примешаться сколько-нибудь к житейским нечистотам живущему среди них, хотя и не чувствует он вреда, со временем привыкнув к вредоносному.