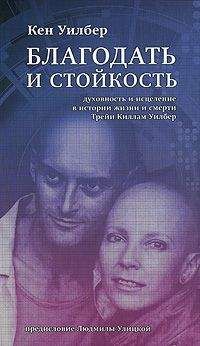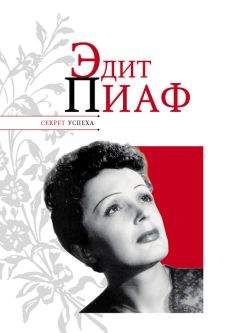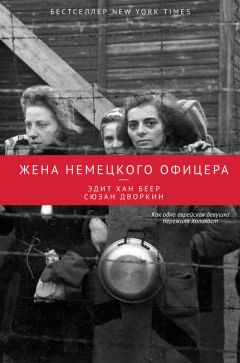Я никогда не задумывала эти письма как серию с продолжением. Просто я слишком ленива, чтобы писать каждому в отдельности, но при этом мне не хочется терять связи ни с кем. Теперь письма зажили самостоятельной жизнью, и даже если их никто не прочтет, я все равно буду продолжать их писать! Я описываю все эти мелочи про анализы, противоречивые результаты, противоположные мнения и трудный выбор не потому, что здесь важны цифры, результаты или даже мой выбор, а потому, что описание мелочей повседневной жизни бок о бок с болезнью оживляет привычные обобщения, вроде «жизнь онкологического больного — это постоянные эмоциональные перепады», «выбрать лечение мучительно трудно», «ничего нельзя планировать дальше, чем на неделю вперед» и «так все и будет тянуться до самого конца». Истории других людей будут отличаться в цифрах, мелочах, предпринятых шагах и результатах, но общее ощущение будет таким же. Это ухабистый путь.
В те моменты, когда я думаю: а стоит ли оно того, действительно ли жизнь так уж замечательна, что надо прилагать столько усилий, чтобы протянуть подольше, может быть, если станет совсем тяжело, просто махнуть рукой, — а такие мысли и правда посещают меня довольно регулярно — единственное, что поддерживает меня, единственное, что заставляет меня хотеть жить дальше, продвигаться вглубь, — это процесс изложения на бумаге всего того, что я переживаю, чему учусь, какие испытания передо мной встают. В самом деле, Кен как-то раз спросил меня: если дела пойдут совсем плохо, буду ли я и дальше писать эти письма? Я, не колеблясь, ответила: «Конечно. Я как раз подумала: может быть, это и заставит меня двигаться дальше, если я буду мучиться от боли, именно это не позволит мне искать легкого выхода и заставит меня по-прежнему верить в важность того, чтобы жить день за днем, даже если тебе очень больно, а конец уже совсем близок». Я по-прежнему буду стараться рассказывать вам, что я испытываю, по-прежнему буду стараться донести до вас свой опыт в надежде, что то, чем я поделилась, когда-нибудь может оказаться полезным кому-нибудь другому.
Пора прощаться и переходить к следующему письму! Хочу извиниться за то, что у меня не получается отвечать на письма и перезванивать, но я надеюсь, что все вы меня понимаете. Уверяю вас: и Кен, и я каждый день чувствуем всяческую поддержку, которую оказывает каждый из вас!
С любовью, Трейя
И началась поездка по ухабистой — чертовски ухабистой! — дороге. Почти немедленно на нас обрушился шквал противоречивых медицинских заключений. Традиционные медицинские анализы свидетельствовали о стремительном росте опухолей в теле Трейи. Но эти же самые тесты полностью соответствовали тому, чего и следовало ожидать, если бы опухоли растворялись под воздействием энзимов.
Вчера я испугалась, и из-за этого у меня была неспокойная ночь. Позвонил мой денверский врач и сообщил о результатах теста — канцероэмбрионального анализа (КЭА), который измеряет количество протеина в раковых клетках, циркулирующих в крови, и тем самым отражает количество активных раковых образований в теле. Аналогичный анализ, сделанный тем январем, когда мне поставили диагноз, показывал 7,7 (нормой считается от 0 до 5). После первого лечения в Германии он был 13, а перед моим отъездом оттуда, в мае, — 16,7. Предполагается, что мы рассматриваем эти показатели как признак того, что опухоли растут, и если это так, то мы должны предпринимать очередные шаги. Мой последний тест был 21. Значит ли это, что опухоли снова стали активными? Значит ли это, что опухоль в мозге, которая должна оставаться в стабильном состоянии от двух до трех лет, стала расти? И что моя иммунная система неспособна удерживать стабильное состояние? И что я должна снова обдумать возможность продолжающейся ежемесячной химиотерапии? Я пробыла дома всего две недели, сказала я, обращаясь к Жизни. Ну хватит, дай мне чуть больше времени, чтобы передохнуть от всего этого!
К счастью, этим утром мы с Кеном дозвонились до Гонзалеса. Он сказал, что по поводу КЭА вообще не стоит волноваться. «У меня есть пациенты с показателями 880 и 1300 по КЭА, и их дела идут нормально. Да и вообще, если показатель ниже 700, я даже не начинаю беспокоиться». Он предупредил, что во время лечения энзимами показатель может резко возрасти, когда раковые клетки разрушаются и высвобождают протеин, который и измеряет КЭА. «Ничего страшного, — сказал он. — Показатель может взлететь от 300 до 1300 за две недели, и обычные доктора начинают сходить с ума. 21 — показатель некоторой активности, но не очень высокой». Можете вообразить волну облегчения, которая меня окатила. Мне полегчало вдвойне, когда Гонзалес заверил меня, что это лечение действует и для мозга, потому что энзимы проникают сквозь барьер, отделяющий кровь от мозга (недавно я узнала, что большинство моих «запасных» методов — фактор некроза опухолей, антинеопластины Буржински, моноклональная химиотерапия, — увы, этого не делают). Доктор Гонзалес говорил так уверенно, что я сразу почувствовала себя лучше. Надеюсь, что он прав. По крайней мере, сейчас я чувствую себя гораздо увереннее, и это будет очень важно, когда на следующей неделе я пойду на прием к своему онкологу, придерживающемуся более традиционных взглядов, чтобы посмотреть все тесты и выслушать его рекомендации.
Рекомендации традиционной медицины были такими: немедленно начать непрерывную химиотерапию или поступить еще радикальней — начать химиотерапию очень высокими дозами, настолько высокими, что она убьет костный мозг, — а потом сделать трансплантацию костного мозга (вся эта процедура в целом считается самым мучительным из всех существующих способов лечения). Мы с нетерпением ждали результатов анализа крови от Гонзалеса, теста, который должен определить, растут опухоли или все-таки растворяются.
Кажется, энзимы помогают. Ур-ра! Это первая хорошая новость за очень долгое время. Я снова сдала образцы волос и крови после месяца лечения, и мой показатель упал с 38 до 33 — самое стремительное падение за месяц лечения, с которым сталкивался Гонзалес. В этот же период я стала принимать антиэстрогены, так что отчасти это уменьшение, возможно, произошло благодаря им (недавно я разговаривала с одной женщиной, которая сказала, что у нее полностью исчезли маленькие опухоли в легких, когда единственным ее лечением была овариоэктомия [удаление яичника]). Нас с Кеном эта новость от Гонзалеса страшно обрадовала!
Мой энтузиазм был немного омрачен появлением нового симптома — болей в правой руке, которые могли появиться из-за того, что опухоль стала давить на другое место, но я помню, как во время визуализации мне было сказано не волноваться, если появятся странные симптомы: они могут проявиться из-за того, что опухоль, исчезая, меняет форму. Такие сеансы внутреннего общения по-прежнему позитивны и оптимистичны; основное чувство, которое они вызывают — даже перед лицом тревоги, — «со мной все будет в порядке». Это не то, что называется «позитивное мышление»: эти мысли не вызваны ни принуждением, ни даже сознательным намерением, они появляются сами по себе. И они вполне убеждают, пусть даже и не совпадают с результатами тестов ортодоксальной медицины!
Вся эта ситуация доводила меня до белого каления. Кому прикажете верить? В тот день я пошел выгуливать собак, и вот какие мысли крутились у меня в голове.
Я биохимик по образованию, и слова Гонзалеса о традиционных врачебных тестах казались мне вполне осмысленными. Когда опухоли растворяются, они высвобождают такие же продукты, что и растущие опухоли; с помощью традиционных медицинских анализов отличить одно от другого не так-то легко. Даже опытный врач-радиолог не всегда может различить растущую опухоль, гистаминную реакцию и рубцовую ткань.
Но вдруг он просто водит нас за нос? Пытается сделать так, чтобы мы успокоились? Правда, зачем ему это? Наш онколог считает, что ради денег, но это просто смешно. Гонзалес всегда берет предоплату. Умрет Трейя или вылечится — деньги он уже получил!
Более того, если он кормит нас успокоительными новостями и они лживы, то он знает, что скоро мы узнаем правду и вполне законно накинемся на него. Трейя даже спросила его так, как она иногда умеет: «А что, если вы неправы? Что, если мы на основе ваших рекомендаций откажемся от традиционной медицины и я умру? Разве моя семья не сможет вчинить вам судебный иск?» Он ответил: «Конечно, может. Но моя программа все еще действует в Соединенных Штатах только по одной причине: у нее очень высокие результаты. Если бы это было не так, то и я, и мои пациенты уже были бы мертвы».
Кроме того, Гонзалес дорожит своей репутацией, и, если его лечение не помогает пациенту, он немедленно рекомендует прибегнуть к методам традиционной медицины. Он не меньше других хочет, чтобы Трейя выжила. И он уверен, что Трейе не только не становится хуже, а, наоборот, она быстро выздоравливает.