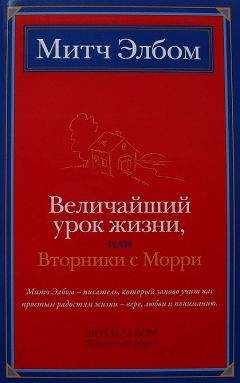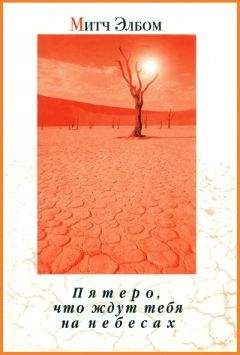Морри выдохнул, закрыл глаза и улыбнулся, и я увидел, что даже улыбка ему теперь не по силам.
— Мой… дорогой друг… — наконец вымолвил он. — У меня дела… не очень хороши… сегодня…
— А завтра будут получше.
Он с трудом вдохнул и с усилием кивнул. Вдруг я увидел, как он с чем-то сражается под простыней, и понял: он пытается высвободить из-под нее руку.
— Подержи ее… — сказал Морри.
Я отодвинул простыню, взял его руку, и она тут же утонула в моей. Я придвинулся ближе, почти вплотную к его лицу. И тут я заметил: профессор был небрит — впервые за все время болезни. Торчавшие тут и там крохотные седые щетинки казались совершенно неуместными на его лице, словно кто-то обсыпал ему щеки и подбородок солью. И как это борода растет у человека, в чьем теле едва теплится жизнь?
— Морри, — тихо позвал я.
— Тренер, — поправил Морри.
— Тренер, — повторил я. Меня пробрала дрожь. Речь Морри теперь походила на короткие вспышки: воздух — на вдохе, слово — на выдохе, а голос был тихий и дребезжащий. И еще от него исходил сильный лекарственный запах.
— Ты… добрый человек.
Добрый человек.
— Ты тронул меня… — шепотом сказал Морри и подвинул мою руку к своему сердцу, — вот тут.
В горле у меня застрял комок.
— Тренер…
— A-а?
— Я не знаю, как сказать «прощай».
Морри легонько похлопал меня по руке, не отнимая ее от своей груди.
— Вот так… мы говорим… прощай…
Он тихо вдохнул и выдохнул, и я рукой ощутил, как его грудь поднялась и опустилась. И тут он взглянул мне прямо в глаза.
— Ты мне… очень дорог… — выдохнул он.
— И вы мне тоже… тренер.
— Я знаю… и еще я знаю…
— Что еще вы знаете?
— Что… так было… всегда…
Он зажмурился и заплакал. Лицо его сморщилось, как у младенца, который еще толком и не знает, как плакать. Я прижал его к себе. Я гладил его обвислую кожу. Я гладил его по волосам. Я провел ладонью по его лицу и ощутил проступившие под тонкой кожей скулы и крохотные, как будто накапанные из пипетки, слезы.
Когда его дыхание стало чуть ровнее, я откашлялся и сказал, что вижу, какой он сегодня усталый, так что я приеду в следующий вторник и надеюсь, он будет пободрее. Морри проронил «спасибо» и тихонько хмыкнул — так он теперь смеялся. Но вышло это все равно невесело.
Я подхватил сумку с магнитофоном, которую так и не раскрыл. Зачем я ее только принес? Я ведь знал, что она нам не понадобится. Я наклонился к Морри совсем близко, поцеловал и прижался лицом к его лицу, щекой к его щеке, щетиной к щетине, задержавшись чуть дольше обычного на случай, если это доставит ему хоть какое-то удовольствие.
— Ну, пока? — спросил я, поднимаясь.
Я сморгнул слезы, а он, увидев мое лицо, сжал губы и изумленно поднял брови. Я думаю, это была минута удовлетворения для моего старика-профессора. Он-таки заставил меня заплакать.
— Ну, пока, — прошептал он.
Морри умер в субботу утром.
Все его родные были с ним. Роб прилетел из Токио, и Ион был рядом с ним, и, конечно, Шарлотт, и двоюродная сестра Шарлотт Марша, та, что написала стихотворение к «неофициальной церемонии» Морри, которое так его тронуло. Они по очереди дежурили возле его постели. Морри впал в кому через два дня после нашей последней встречи, и, по мнению врача, ему оставались считанные минуты. Он продержался еще день и ночь.
Но вот четвертого ноября, когда родные на минуту отлучились на кухню за чашкой кофе, впервые оставив Морри одного, у него остановилось дыхание.
И его не стало.
Я полагаю, это случилось неспроста. Он не хотел никого пугать. Не хотел, чтобы родные испытали тот ужас, какой испытал в свое время он, когда получил телеграмму о смерти матери или когда увидел тело отца в морге.
Я думаю, Морри сознавал, что лежит в своей постели и что его книги, и записи, и маленький гибискус — все это рядом с ним. Он хотел уйти из жизни безмятежно и именно так ушел.
Его хоронили ветреным, сырым утром. Трава была влажная, а небо молочного цвета. Мы стояли возле вырытой в земле ямы и слышали, как в пруду плескалась о берег вода, а утки отряхивали перья.
Сотни людей хотели прийти на похороны, но Шарлотт попросила, чтобы были только близкие друзья и родственники. Раввин Аксельрод прочел несколько стихотворений, а брат Морри Дэвид, все еще хромавший от перенесенного в детстве полиомиелита, по традиции взял лопату и бросил в могилу землю.
Когда прах профессора опустили в землю, я осмотрелся вокруг и подумал: «Морри был прав — чудное место. Деревья, трава, пологий склон».
Как он тогда сказал? «Ты говори, а я буду слушать».
И я начал мысленно говорить с ним. И к моей радости, эта воображаемая беседа зазвучала почти естественно. Взгляд мой упал на часы, и я понял почему. Был вторник.
Дорогой читатель!
Прошло десять лет со времени первой публикации «Вторников с Морри», и в честь этой годовщины меня попросили поделиться размышлениями о книге. Задача оказалась непростой. Эта книга изменила мою жизнь, а также, судя по письмам, и жизни многочисленных читателей из самых разных уголков мира. С чего же начать?
Пожалуй, начну с истории, которую не включил в первоначальный вариант рукописи. Собирался, но почему-то не включил. И вот теперь, столько лет спустя, она перед вами.
Когда я впервые позвонил Морри Шварцу, моему старому, тогда уже тяжелобольному профессору, то посчитал, что следует заново ему представиться.
Ведь мы с ним не виделись целых шестнадцать лет. Кто знает, помнит ли он меня? В колледже я называл его «тренер». А почему — не помню. Видимо, уже тогда была какая-то тяга к спорту. «Здравствуйте, тренер!» «Как дела, тренер?» — бывало говорил я.
Как бы то ни было, в тот день, набрав его номер и услышав в трубке «Алло», я откашлялся и произнес: «Морри, меня зовут Митч Элбом. Я был вашим студентом в семидесятые. Вы меня, наверное, не помните».
И вдруг он мне отвечает: «А почему ты не назвал меня тренером?»
С этого предложения началось мое странствие. Это предложение провело меня через наш телефонный разговор, через мою первую, наполненную безмерным чувством вины поездку в Западный Ньютон, через все последующие визиты по вторникам, через медленную агонию и угасание Морри, и его спокойную, полную достоинства смерть. Оно провело меня через его похороны, дни моей скорби и дни, когда я, сидя в полуподвале, писал эту книгу, через первую скромную ее публикацию и через неожиданные двести последующих. Оно не покидало меня ни на родине, ни в других странах, когда эту книгу изучали в школах или читали отрывки на похоронах и свадьбах. Оно продолжало жить во мне, когда я читал тысячи писем и электронных посланий и в те моменты, когда меня со слезами на глазах обнимали совершенно незнакомые люди. Все они в общем-то хотели сказать одно: ваша история нас растрогала.
Но это была не моя история.
Это была история Морри. И его приглашение. Это был его последний урок, на который он пригласил меня.
«А почему ты не назвал меня тренером?»
Потому, что я об этом забыл. А он помнил.
Этим-то Морри от меня и отличался.
И именно этому Морри меня и научил. Теперь я помню все. Да и как тут забудешь? Почти каждый день мне задают вопросы о моем старике-профессоре, и я часто шучу — книга теперь мстит мне за то, что я столько лет не вспоминал о Морри. Я стал его вечным студентом-выпускником, возвращающимся к преподавателю в класс каждую осень, весну и лето прослушивать одни и те же лекции. И я не против. Я всегда считал, что у Морри есть чему поучиться. Я так считал тридцать лет назад, когда он носил бакенбарды и желтые водолазки, а во время лекций отчаянно жестикулировал. Мое мнение не изменилось и спустя много лет, когда измученный болезнью Морри лежал дома в кресле, неподвижный и хрупкий, говорил едва слышно и был так слаб, что мне приходилось поворачивать его голову, чтобы он мог меня видеть.
Морри оставался таким же мудрым и, как прежде, с любовью относился к людям. И надежда его сбылась: до последнего своего дня он был учителем.
Размышляя о том, что написать в этом послесловии, я обратился к записям, сделанным мною по ходу наших бесед. В свое время я расшифровал с магнитофонных пленок тексты всех наших бесед и рассортировал их по темам. Я прокручивал пленку за пленкой и снова вслушивался в его голос в надежде набрести на какую-то новую тему, на что-то, о чем еще не успел рассказать и чем бы хотел теперь поделиться с читателями.
И я натолкнулся на тему: «Жизнь после смерти».
Морри, по его собственному признанию, долгие годы был агностиком. Но после того как ему поставили диагноз AЛC, он стал по-иному относиться к вопросу жизни и смерти и занялся им всерьез. Он обратился к религиозным учениям. И в один из вторников 1995 года мы подняли эту тему. Морри признался, что раньше он считал: смерть безжалостна и бесповоротна. «Тебя отправляют в землю, и дело с концом».