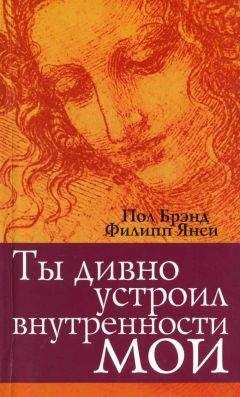уже пустила метастазы в семнадцать лимфоузлов. Врач сказал один на один Дэвиду, тогда уже студенту Принстонского университета, что его мать вряд ли выживет. В дневниках она писала, что ей снятся кинжалы, что она, похоже, неизлечимо больна, что ее паника «протекает сквозь щели» [21]. Ей было так страшно, что она спала со включенным светом, но она имела твердое намерение продолжать жить. Выживание она видела как волевой акт. Как и всё, что она делала, оно требовало исследований и концентрации, досконального изучения возможных опций, а затем быстрых, решительных действий.
Она настояла на самом агрессивном методе лечения – на радикальной мастэктомии по Холстеду, операции, ныне проводимой только в редких случаях. В том октябре в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга на Йорк-авеню ей удалили одну грудь и бо́льшую часть мышц грудной стенки, а также кожу и лимфоузлы из подмышки. Оплакивая то, что осталось от ее изрезанного до кости торса, она оставалась тверда: выжить любой ценой, пойти на любые жертвы, лишь бы продлить свое существование.
По совету своего врача, французского онколога доктора Исраэля, после операции она два года продолжала курсы химио- и иммунотерапии, что, по словам ее сына, было испытанием «на грани выносимого» [22]. С бесконечной верой в силу науки она полностью отдалась на волю врачей. Это болезненный, унизительный процесс – растворение ее настоящей личности, настоящей сущности в пассивном, изувеченном теле пациента. «Один щупает, оттягивает, тычет, восхищаясь моим огромным шрамом – делом своих рук. Другой накачивает меня ядом с целью убить мою болезнь, но не меня» [23].
На почве этого сурового опыта военные метафоры выросли спонтанно. Позже в ее дневнике появилась запись: «Я чувствую себя Вьетнамской войной. Мое тело – захватчик, колонизатор. Против меня применяют химическое оружие. А я должна радоваться» [24]. Написав эти строки, она схватила ручку и зачеркнула их, отказываясь от образа войны. Она бунтовала не только против болезни, но и против сложившегося отношения к болезни в культуре, против бесполезных и токсичных метафор. «Рак = смерть» [25], – написала она, а затем решила доказать, почему это не так.
Лежа на больничной койке, она начала собирать мысли, которые позже войдут в эссе «Болезнь как метафора» – блистательное разоблачение мифов, сопровождающих недуги. В нем она критиковала военный язык, настолько свойственный риторике вокруг рака, что она сама прибегла к нему несколькими месяцами ранее. Она размышляла, что воинственные разговоры о враге и битве только закрепляют стигму болезни; этот процесс опасен тем, что стигма заставляет людей избегать лечения и огласки, как уже случилось с раком и скоро случится со СПИДом. Еще больше ее беспокоило, что определенные болезни связывают с чертами характера и типами личности. Туберкулезом болеют не только лихорадочные, безответственные романтики, писала она, и нет ракового «типажа» людей, настолько сдерживающих свои чувства, что они превращаются в злокачественные опухоли. Рак – это не результат эмоционального блока или неспособности выразить злость. Это не следствие неискренности или подавления эмоций.
«Болезнь как метафора» – странная книга, демонстрирующая как талант Сонтаг к афоризмам, так и досадную склонность к выборочному освещению фактов. Она набрасывается на стигму с исступлением человека, сдирающего плющ со стены. Но на протяжении всего произведения – восхитительных рассуждений о туберкулезе в литературе девятнадцатого века и пылкого, настойчивого отказа видеть в больном теле что-то, кроме больного тела, – ощущается тихий вопль паники: сама ли я виновата, сама ли я виновата? Как писал в рецензии «Нью-Йорк таймс» Дэнис Донохью, «по моему впечатлению, „Болезнь как метафора“ – глубоко личная книга, ради приличия притворяющаяся научным трудом» [26].
Она боялась именно того, что сама пыталась опровергнуть: что рак – это кара, острая реакция организма на ее изъяны как личности. Позже, вспоминая свою болезнь в сиквеле 1989 года под названием «СПИД и его метафоры», она показывает себя с несгибаемой стороны, сухо вспоминая «сумрачные» прогнозы докторов и свое нежелание поддаваться страхам о том, что значил ее рак. Другие пациенты, рассказывает она, «находились в плену неких малодоступных для меня фантазий» [27].
«Малодоступных». Это неправда. Она боялась точно так же, как другие. Ее тело стало для нее по-новому недосягаемо, «непрозрачно» [28], а разум превратился в источник страха. Она не могла перестать думать о том, какую роль она сыграла в собственном заболевании, о тревожной и неясной связи между биографией и болезнью. Виновата ли ее мать? «Я ощущала свою опухоль + возможное удаление матки, – писала она в дневнике, – как ее завещание, ее наследие, ее проклятье» [29]. Что, если ее недуг породили подавленные эмоции? «Мое тело подвело меня. И мой разум тоже. Почему-то я всё же верю в райховскую версию. Я несу ответственность за свой рак. Я всю жизнь была трусихой, подавляла свои желания, свою ярость» [30].
«Райховская версия», о которой она говорит, это не броня характера. Она имеет в виду странные изменения в идеях Райха в конце 1930-х годов. С самого начала учебы на медицинском факультете Райх стремился открыть некую витальную эссенцию, которая наделяет жизнью всё сущее. Фрейдовское понятие «либидо» как будто удовлетворило его поиски, а когда в 1920-х годах его пациенты заговорили об ощущении течения, он стал убеждаться, что либидо – это не метафорическая сила, но реальная и ощутимая энергия, биологическая субстанция, которую можно выделить и подвергнуть научному анализу. Ко времени своей миграции в Америку в 1939 году он был уверен в трех вещах: существует жизненная энергия, которую он назвал оргоном; ее могут заблокировать травмы и подавление эмоций; у этих блоков есть серьезные физиологические последствия. Как он утверждал в книге «Биопатия рака», самостоятельно им изданной в 1948 году, они приводят к стагнации клеточных процессов и разложению, что в итоге вызывает болезни, в первую очередь рак.
Несмотря на псевдонаучный характер, после смерти Райха в 1957 году идея обрела невероятную популярность. Его труды активно циркулировали в контркультурных кругах в шестидесятых, и его теория болезни оказалась созвучна набирающему силы убеждению, что любое подавление опасно и вредно для здоровья. В 1974 году, за год до диагноза Сонтаг, «Биопатию рака» вернуло в печать ее же издательство, «Фаррар, Штраус и Жиру» (впоследствии они издадут еще двадцать одну его книгу). Райх верил, что главной причиной рака являются подавленные сексуальные желания, но, как отмечает Сонтаг, к семидесятым годам эту болезнь стали большее ассоциировать с невыпущенной яростью.
В качестве примера она приводит мрачный анекдот о романисте, культурологе и отъявленном женоненавистнике Нормане Мейлере, чьи отсылки к Райху в его известном и откровенно сумасбродном эссе 1957 года «Белый негр» отчасти послужили толчком к возрождению райховских идей. Осенью 1960 года у Мейлера в его квартире в элитном квартале проходила вечеринка в честь начала