А потому, как множество раз уже было сказано, что мир — это корабль, с того дня, как я оказался в Сицилии, мне часто кажется, что наш корабль, корабль нашей жизни и нашего времени, корабль нашего мира, чем-то сродни кораблю Диониса, на котором заплыли на Сицилию удравшие от своего господина-бога пьяные сатиры[167]. В хмельном бреду носимся мы последние годы в нерасторжимых объятиях бури, которая неистово потрясает нас, ни на миг не выпуская из своих когтей. Словно одна из множества ужасных матерей-убийц греческих мифов, которые, впав в безумие, долго мечутся всюду, не выпуская из объятий своих младенцев перед тем, как вырвать из них жизнь. Или чудовищная полуженщина-полуволчица, пожирающая и своих собственных и чужих младенцев: такой представляют Рому сказки местных жителей (может быть, и не без основания). Мы мечемся на все четыре стороны, и еще до совсем недавнего времени били нас четыре вихря — Митридат, Серторий[168] киликийские пираты и самый страшный из вихрей — Спартак, не говоря уже о множестве подводных скал, неведомых течений, об отсутствии какого-либо перипла[169] и о совершенной вакханалии на самом корабле, захватившей в свою хмельную несуразность даже созвездия на небе. Среди всего этого абсурда кормчий бессилен определить верное направление.
«Устойчивая середина» исчезла без следа[170].
Но что случилось с самим кораблем, порядок на котором был образцом человеческого общества? Как нечто единое, упорядоченное, он больше не существует. Иногда за место кормчего дерутся моряки, как правило, несведущие в вопросах навигации, и тогда по палубе хлещет обильно кровь. Иногда мне кажется, что кормчего нет вообще, или что он нарочито где-то прячется. Я мечусь от одного совершенно беспечного морехода к другому, хватаю их за плечи, тщетно трясу, стараясь прогнать апатию, оцепенение, но вижу перед собой только хмельные или в лучшем случае удивленные лица. Тогда отчаяние хватает меня за горло, словно вырвавшаяся из бурлящего мрака когтистая и мохнатая лапа неведомого чудовища — одна из двенадцати лап гомеровской Скиллы.
Иногда бывает еще страшнее: я — один на всем корабле, бури нет, на море полное спокойствие, не слышно ни малейшего плеска волн, и, тем не менее, корабль куда-то движется, а на небе нет ни одной звезды, ни луны, ни облака, и кажется, будто это уже и не ночь, а черный день, но даже без черного солнца. И нет никакой борьбы (борьба была только в моем возбужденном воображении). Полный покой, который есть ничто, напоминающее изначальный хаос, который однако не породит из себя нового мироздания. Этот полный покой, этот ужасный временной промежуток между двумя вспышками единого огня Гераклита, на который пришлась моя жизнь, этот покой страшней самой яростной бури. И только сознание того, что странный корабль жизни моей есть корабль Диониса и движим он божьим промыслом, еще дает мне некоторую надежду.
В таком вот смятении души, мятущейся между Скиллой и Харибдой, словно корабль, на котором все четыре ветра изорвали уже паруса в клочья и только поэтому не разбили его совсем, швырнув на прибрежные скалы, пришел я в дом Каллимаха и совершенно нежданно обрел там великую радость, которую чуть было не назвал тихой солнечной бухтой: ее следовало бы назвать ликующим попутным ветром. Ты, наверное, усмехнешься, Луций: попутный ветер в изорванных в клочья парусах? Что ж, усмехнись, но не смейся, Луций.
Уже само имя ее было словно успокоение от бурных странствий — Эвксения[171]. Ты ведь, знаешь Луций: я верю в имена.
У нее была почти прямая линия носа и лба, которая однако имела легкие неправильности, отделявшие это лицо от идеала красоты и делавшие его более естественным, значительно более живым и даже каким-то особенно близким и родным. У нее был очень стройный и очень изящный стан (изящество, в частности, определялось этой стройностью), маленькая, но очень упругая и круглая грудь, вздернутая кверху, с восхитительными сосками, напоминающими каких-то маленьких совершенно невинных, но очень игривых (а, может быть, лукавых?) животных — оленят, козлят, котят, уже подросших, но еще не превратившихся в кошек, или других, подобных зверьков. В первое же мгновение я удивился, как это почти детское тело способно выдерживать мужские ласки, но затем отбросил удивление: маленькая грудь наслаждается больше, чем пышная, хотя обычно предпочитают пышную грудь и пышное тело. Мысль о совместимости или несовместимости этого изящества с буйными любовными ласками пронеслась в этой атмосфере легко, словно невзначай качнувшееся пламя незримого светильника, но я тут же отпрянул от обдумывания ее: я оставил себе загадку, а с ней оставил и очарование. Свет незримого светильника снова стал ровным, легким, тихим и радостным: он был успокаивающим, как мед, и очаровывающим, как лунное сияние, если бы, изливаясь в мир наш, луна, будучи подобием солнца, могла сохранять его золото. И все в ней было золотистым: и волосы, такие замысловатые в хитросплетениях локонов, коварные лабиринты которых не оставляли сомнений в ее любовной опытности, и едва заметная тень, падавшая от полной нижней губы на золотое же яблоко ее подбородка, и ее кожа, небрежно согласившаяся принять на себя ласки солнечных лучей и столь же небрежно, но и лукаво удержавшая их, и солнечные ласки, и сами эти лучи.
Глаза у нее были голубые. Я не люблю голубых глаз ни у женщин, ни у мужчин: у мужчин я их опасаюсь (возможно, из-за воспоминаний о Сулле), у женщин просто не люблю. Я люблю темные глаза, в которых не утопаешь, как в море или в небе, но погружаешься в них и ощущаешь самого себя в этом погружении. Однако в голубизне ее глаз было непередаваемое греческое γλαυκόν, присущее мягкому серому оперению совы. Эта серая мягкость, нарушавшая восхитительную голубизну ее глаз, делала их не далекими — небесными, а близкими — морскими и удивительно прекрасными. Так кажется мне сейчас, когда я спешу запечатлеть письменными знаками вчерашние воспоминания, но еще совсем недавно я был уверен, да и продолжаю быть уверен, что глаза ее были прекрасны тогда потому, что в них было то, словно слезой печали подернутое желание, которое остается навсегда и не удовлетворяется никогда, потому что желание это — страсть к неосязаемому и страсти по неосязаемому.
«Да, но кто же она, и почему ты пишешь о ней?», — спросишь ты.
Кто она? Я ведь уже сказал, что она — тихая бухта и попутный ветер. А если ты желаешь привязать этот образ к осязаемой жизни, скажу, что она — знакомая Каллимаха. Когда, как, при каких обстоятельствах познакомился с ней Каллимах, почему она оказалась вчера у него в доме, — не знаю. Он сообщил мне это, представляя Эвксению, но ни для тебя, ни для меня все это не имеет совершенно никакого значения. Мне даже кажется, что я и сам вдруг позабыл об этом еще вчера, в ту самую минуту, когда ощутил вдруг, что она соответствует своему имени, что она дана мне судьбой, пусть даже хотя бы на какие-то считанные мгновения, пусть даже только для того, чтобы унять бурю в душе моей, вывести мой корабль из пролива между Скиллой и Харибдой на широкий простор, где солнечные лучи преломляются между морем и небом несметными россыпями свечения драгоценных камней.
Впрочем, из того, что рассказал мне о ней Каллимах, одно обстоятельство заслуживает внимания. Она любила, и вдруг любовь эта завершилась болезненной разлукой. Не знаю, насколько сильна была ее боль, не знаю, насколько она была оправдана. (Здесь ты снова усмехнешься, Луций: разве эту боль можно оправдать? и разве нуждается она в оправдании?). Важно то, что она пережила, если даже не саму любовь (как понимаю это я, естественно), то, во всяком случае, потребность в любви.
Я подошел к главному событию вчерашнего дня.
Я сразу обратил внимание, что Эвксения пребывала в каком-то особом состоянии, которое тоже назвал бы вакхическим. Это был тот истинный вакхизм, который выводит человека из состояния обыденности. Большинство людей только смутно подозревает о существовании истинного вакхизма, и тем не менее уверено в его существовании и даже убеждено, что может достичь его. Отрицание обыденности видится им в неистовстве, состояние неистовства достигается опьянением, средство, дающее опьянение, — вино. Диониса почитают как бога вина, разгула, стремительного освобождения пребывающих в нас страстей, совершенно забывая или же вообще не подозревая, что Дионис есть возвышенное блаженство. Ναρθηκοφόροι μεν πολλοί, βάκχοι δε τε παϋροι[172]. Эта столь важная и столь простая истина была высказана более трехсот лет назад, но ее все так же упорно не желают признавать, возможно, именно из-за простоты этих слов: нам ведь нравится либо что-то усложненное, что нужно распутать и упростить, либо то, над чем вообще не нужно думать.
Эвксения пребывала в состоянии истинного вакхизма — восторга от постижения некоей открывшейся ей истины. Она вдруг поняла, что главное, ради чего существует мир, это — любовь. Замечательно, что этим своим открытием она обязана недавно пережитой ей утрате только частично. Потери зачастую помогают ценить ту или иную вещь. Деньги — самый простой и омерзительный тому пример. Ее собственная любовь — пережитая, потерянная и оставшаяся с ней благодаря этой потере, — была только предпосылкой того ее дивного состояния, в котором не знаю чего больше — восторга или тоски. Или восторженной тоски?


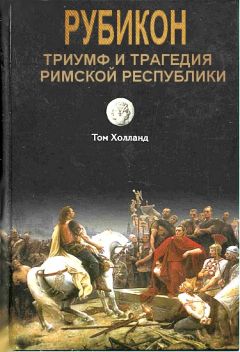
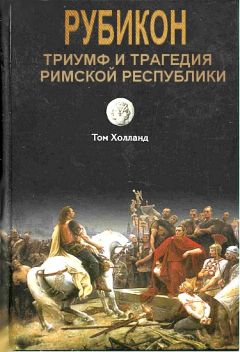
![Э. Гиббон - История упадка и крушения Римской империи [без альбома иллюстраций]](https://cdn.my-library.info/books/173961/173961.jpg)