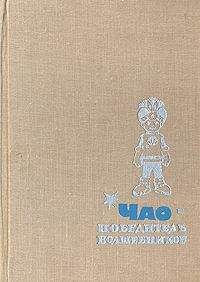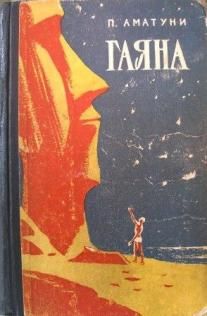Подали, впрочем, очень недурную закуску. Между тем все уже возлегли, кроме одного Трималхиона, которому — неслыханная вещь — оставлено было первое место. Между блюдами закуски стоял ослик коринфской бронзы, на коем висели два вьюка: в одном были светлые, в другом темные насыпаны оливки. На спине ослик вез два блюда с вырезанным по краешку Трималхионовым именем и весом серебра, а на блюдах устроены были мостики, на которых лежали жареные сони, политые медом с маком. Кроме них поданы были на серебряной сковородке колбаски горячие с подложенными внизу сирийскими сливами и гранатовыми семечками.
32. Мы уже окунулись в эти роскошества, когда под звуки музыки внесли самого Трималхиона и осторожно уложили на сложное сооружение из подушек. Смех был неизбежен, хотя неосторожен: из пышного алого одеяния выглядывает бритый череп, шея укутана тканью, а поверх нее пущена салфетка с широкой каймой и бахромой, ниспадавшей на обе стороны. На левом мизинце его было толстое позолоченное кольцо, на кончике безымянного пальца той же руки — кольцо поменьше, и, как мне показалось, чистого золота, только усеянное сверху железными звездочками. А чтобы не этим только убранством похвалиться перед нами, он обнажил правую руку, на которой красовался золотой браслет и кольцо слоновой кости, сомкнутое сверкающей пластинкой.
33. Поковыряв в зубах серебряным перышком, он произнес: «Сказать по правде, други мои, еще мне не в радость было идти к столу, да уж чтобы не задерживать вас дольше моим отсутствием, я от собственного удовольствия отрекся. Дозволите разве мне игру кончить». Сейчас явился слуга с доской из терпентинного дерева и с хрустальными кубиками. Тут бросилось мне в глаза самое изысканное из всего: вместо черных и белых камешков были у него золотые и серебряные денарии. Пока хозяин играл и бранился не хуже мастерового, а мы все еще закусывали, поставили перед нами на большом блюде корзину, в которой оказалась деревянная курица с растопыренными крыльями, как бывает у наседок. Немедленно подскочили два раба и, порывшись под грохот музыки в соломе, вытащили оттуда павлиньи яйца, чтобы раздать их гостям. Ради этого эписодия поднял взор и хозяин. «Други, — сказал он, — это я велел посадить курицу на павлиньи яйца; чего доброго, они уж и высижены; а впрочем, попробуем: может, еще и можно пить их». Нам подают ложки не менее полфунта весом, и мы разбиваем скорлупу, слепленную, как оказалось, из сдобного теста. Заглянув в яйцо, я чуть не выронил своей доли, ибо мне почудилось, что там сидит уж цыпленок. Но, услышав, как один завсегдатай примолвил: «Эге! да тут, надо полагать, что-то путное!», снимаю до конца скорлупку пальцами и вытаскиваю жирненькую пеночку, облепленную пряным желтком.
34. Между тем хозяин, оставив игру, велел и себе подать того же, что ели мы, а нам громогласно дал разрешение, если кто пожелает, выпить медовухи по второму разу, затем грянула музыка, а хор запел, торопливо убирая блюда с закуской. Когда в этой сумятице случайно какое-то из серебряных блюд упало на пол и слуга его было подобрал, Трималхион это заметил и повелел подвергнуть слугу заушению, а блюдо бросить на пол обратно. Тут же появился буфетчик с метлой и вымел серебряную вещь вместе с сором. Потом вошли двое с волосами эфиопов и с крохотными бурдючками в руках, вроде тех слуг, какие обычно опрыскивают арену в амфитеатре, и полили нам вина на руки: о воде не было и помину.
Хвалимый за эту изысканность, хозяин воскликнул: «Марс правду любит! Оттого и велел я каждому из вас отдельный стол поставить; да и от рабов этих противных с их суетней нам не так душно будет». Немедленно затем внесены были стеклянные амфоры, запечатанные гипсом; а на горлышках у них болтались ярлычки с надписью: «Фалернское, опимиевского розлива, столетнее». Мы разбираем ярлычки, а хозяин всплеснул руками и молвил: «Ох-хо-хо! Вино-то, знать, долговечнее бедных людишек! А потому тронули! Сколько пьется, столько и живется! Настоящее опимиевское выставляю; вчерашнее было хуже, хоть гости были почище вас!» Мы принялись пить и старательно подхваливать эту роскошь, а слуга тем временем приносит серебряный скелет, собранный так, что суставы его и позвонки выворачивались в любую сторону. Раз-другой выбросил он этот скелет на стол, так что гибкие его сцепления укладывались то так, то этак, а Трималхион присовокупил:
Ох, и несчастные мы, ничтожные мы человеки,
Будем и мы таковы, когда нас Оркус настигнет,
Ну, а покуда живешь, пей и гуляй, коли так!
35. За одобрением последовало первое блюдо, отнюдь не такое величественное, как ждалось; впрочем, диковинный вид его обратил на себя общее внимание. На совершенно круглом блюде изображены были по окружности двенадцать знаков Зодиака, а над каждым рука кухонного мастера поместила свое, подходящее к нему, кушанье: над Овном — овечий горошек, над Тельцом — кусок телятины, над Близнецами — яички и почки, над Раком — венок, над Львом — африканские смоквы, над Девой — матку свинки, над Весами — ручные весы, на одной чаше которых лежал сырный пирог, а на другой — медовый; над Скорпионом — какую-то морскую рыбку, над Стрельцом — лупоглазую рыбину, над Козерогом — морского рака, над Водолеем — гуся, а над Рыбами — двух красноперок. В середине уложен был медовый сот на куске свежего дерна. Египетский мальчик разносил теплый хлеб в серебряной грелке, а сам гнуснейшим голосом завывал песенку из мима «Ласерпициана». Приунывши несколько, мы потянулись за этими убогими угощеньями. «Прошу обедать, — сказал Трималхион, — и быть при праве».
36. Только он это произнес, как грянет оркестр да как вскочат четверо, подбежали, приплясывая, и сняли с блюда крышку. И вот видим мы под ней, на втором, иначе говоря, блюде, жирную дичину, вымя свиное, а посредине зайца с крыльями, приделанными так, чтобы походить на Пегаса. По углам блюда, видим, стоят четыре Марсия с бурдючками, откуда бежит перченая подливка прямо на рыбок, а те как бы плавают в канавке. Прислуга хлопает в ладоши, мы усердно ей вторим и с веселием накидываемся на эти отборные вещи. Улыбнулся хозяин своему трюку и воскликнул: «Кромсай!» Тотчас явился резник и взмахами в лад с оркестром разрезал кушанье так, как бойцы рубятся на арене под водяной орган. Трималхион все повторял протяжно: «Кромсай, кромсай!» Я уже начал догадываться, что какая-то острота сопряжена с этим столько раз повторенным словом, и, преодолев свою скромность, спросил о том у своего собеседника, что лежал местом выше меня. Тому, видно, эти выдумки были не новость. «Ты погляди, — сказал он, — на малого, что кушанье кромсает: его Кромсаем зовут; выходит, как хозяин скажет „КРОМСАЙ“, так зараз и подзывает и приказывает».
37. Я уже не способен был что-либо вкушать; обратившись к соседу, чтобы узнать возможно больше, я начал издалека, спросив, что это за женщина носится туда-сюда. «А это, — ответил тот, — супруга Трималхионова, Фортунатой зовут. И правда, червонцы ведром мерит! А не так давно знаешь кто была? Не при гении твоем будь сказано — ты бы у ней из рук хлеба не взял. А вот смотри ж ты: ни за что ни про что вон куда залетела — стала у Трималхиона все и вся. Короче, скажи она ему в полдень, что на небе потемки, — поверит! Сам именью своему и счет потерял: сверхбогатей! Зато эта сучища под землей видит. Всюду влезет! Но твердая, трезвая, ума ясного — видишь, сколько золота! Зла, конечно, она на язык, кукушка ночная! Но уж кого полюбит — так полюбит, а не любит — так нет! У самого-то Трималхиона земли — птице не облететь, а казны — видимо-невидимо! Да у его привратника в каморке серебра навалено больше, чем у иного в целом хозяйстве. А челяди у него, челяди! Провалиться мне, коли из них десятая доля хозяина своего знает в лицо! Короче, захочет, так всех этих брандахлыстов в бараний рог скрутит.
38. Ты думаешь, он покупает что-нибудь? Все дома родится: шерсть, хрукты разные, перец; птичьего молока спросишь — подадут. Короче: жиденькая у него шерсть получалась — закупил он баранов в Таренте да в стадо и припустил; а чтобы аттический мед у него дома водился, пчел с Афин привезти велел, к тому ж и здешние, значит, пчелки поправятся от гречанок. Да вот на днях еще писал он, чтобы ему из Индии шампионных семян прислали. Лошачихи у него — все от диких ослов. А вот подушки видишь, так они сплошь багрецом или кошенильной шерстью набиты. Одно слово, блаженный муж! Да и на тех, что с ним вместе вольную получили, ты не очень-то фыркай: тоже не без навару. Хоть вон того возьми, который там с краешку расположился: на сегодня свои восемьсот имеет. А с ничего пошел! Не так давно поленья таскал на шее. Болтают люди — я-то не знаю, слышал только, — будто он шапку Инкуба похитил, а клад-то ему и открылся. Что ж делать, кому бог дал, тому не завидуй. Ушлый, конечно, себе на уме. Днями такое объявление сделал о сдаче квартиры: „Гай Помпей Диоген верхний этаж сдает с июльских календ в связи с приобретением дома“. Да и сосед его, вон на месте вольноотпущенника, неплохо уж приподнимался. Не виню его, конечно. Он уж и мильон видал, да споткнулся, а теперь не знаю, остался ли у него хоть волос не заложенный. Гераклом клянусь, нет в том его вины, лучше его и человека на свете не бывало. Это все отпущенники, злодеи, все они себе, негодяи, прибрали! Ты уж так и знай: всё товарищи, а похилилось дело — дружба врозь. А ведь не худыми какими делами занимался, чтобы так-то его, — похоронным мастером был! За стол, бывало, сядет, что твой царь: кабан в обертке, пирогов всяческих силища! А повара! пекаря! Бывало, вина зазря прольется больше, чем у иного в погребе стоит! Не человек, чудо! А похилились дела — струхнул, как бы кредиторы о прогаре его не пронюхали, да и объявил аукцион таким вот образом: „Юлий Прокул лишние вещи с аукциона продает“».