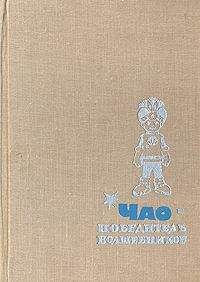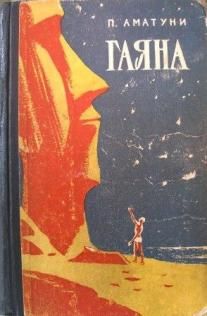25. Она еще не договорила, как подошла, посмеиваясь, Психея, чтобы на ухо ей шепнуть; о чем у них было, неведомо, только Квартилла «а что, — говорит, — спасибо, надоумила! Отчего бы, раз такой подходящий случай, и не лишить невинности нашу Паннихиду?» И тут же выводят премиленькую девочку, которой нельзя было дать больше семи лет. Все разом одобрительно рукоплещут, и затевается свадьба.
Я похолодел и принялся уверять, что ни Гитон, невиннейший мальчик, не годен для этой шалости, ни девочка по своим летам не способна претерпеть то, что положено женщинам. «А что, она моего, что ли, младше, — закричала Квартилла, — я-то когда впервые мужика стерпела? Да пусть прогневается на меня Юнона моя, ежели я помню себя девицею. Еще ребеночком баловалась я со сверстниками, а как подошли годы, стала и к старшим льнуть парням, пока, наконец, в нынешнюю пору не вошла. Отсюда, я так полагаю, и повелось это слово, что быка понесет, кто теленочка поднял». Делать нечего: дабы братик мой, оставшись без присмотра, не пострадал от худшей обиды, поднимаюсь, чтобы свершить свадебный обряд.
26. Уже Психея окутала голову девочки красной фатою; уже шествовал впереди с факелом ночной сосуд, уже хмельные подружки выстроились в длинный ряд, плеща руками и украсив брачный покой нескромным покрывалом, когда, разжегшись и сама сладострастными прибаутками, Квартилла тоже поднялась и, схватив Гитона, повлекла его в спальню. Мальчик, надо признаться, не противился, да и девочка не обнаружила ни грусти, ни робости перед словом «свадьба». И вот, когда, запертые, они легли, мы устраиваемся у порога перед брачным чертогом, и впереди всех Квартилла, прильнувшая к бесчестно оставленной щелке и с упорством сластолюбия взиравшая жарким оком на забавы детей. Она и меня привлекла к тому же зрелищу цепкой рукою, а поскольку созерцание сблизило наши лица, она, чуть отпускало ее зрелище, украдкой шевелила губами и осыпала меня быстрыми поцелуями.
(Мучительная и великолепная ночь подошла к концу.)
Раскинувшись на ложе, мы провели остальную часть ночи без ужасов.
Пришел уже третий день, а это значит — ожидание дарового обеда. Да только нам, истерзанным столькими ранами, бегство казалось милее покоя. О ту самую пору, когда мы печально обсуждали, каким способом убежать от наступающей грозы, явился раб Агамемнона и нас, перепуганных, прервал. «Вы что же, — говорит, — не знаете, кто угощает сегодня? Трималхион, человек до того изысканный, что у него в триклинии часы, а в них встроен трубач, чтобы ему возвещать, какая толика жизни им еще утрачена». Тут, позабыв о всех бедах, мы тщательно одеваемся, а Гитону, до сих пор любезно исполнявшему обязанности раба, велим идти мыться.
27. А пока мы, еще одетые, стали прогуливаться, а вернее — забавляться, подходя то к одному, то к другому кружку развлекающихся. И тут глазам нашим вдруг предстал лысый старик, облаченный в аленькую тунику и развлекавшийся игрой в мяч в обществе подростков-рабов. На мальчишек этих, быть может, и стоило посмотреть, но не они привлекли наше внимание, а сам отец семейства, обутый в туфельки и усердно швырявший зеленый мячик. Если мячик падал на землю, хозяин поднимать его уже не удостоивал, ибо рядом стоял слуга с полным мешком их и подавал игрокам по мере надобности. И еще новинка: за чертой круга игры стояли двое евнухов, один с серебряной ночной вазой в руках и другой, считавший мячики, — не те, что отскакивали от рук в крученой игре, а те, что падали на землю. Мы взирали на эту роскошь, когда подбежал Менелай, чтобы шепнуть: «Тот самый, у кого сегодня возляжете; а впрочем, начало пира вы уже видите». Менелай не кончил еще, как Трималхион щелкнул перстами, и евнух подставил ему, поглощенному игрой, свою посудину. Освободив мочевой пузырь, хозяин спросил воды умыть руки и, едва окунув в нее пальцы, вытер их о голову ближайшего мальчишки.
28. Всего было не пересмотреть. А потому отправляемся в баню и, пропотев в горячей, сей же час в холодную. А Трималхиона уже надушили духами и принялись обсушивать не полотенцами, а полотнищами тончайшего льна. Тем временем на глазах у него трое иатралиптов пили фалернское и, вздоря, лили его на пол, а хозяин приговаривал, что это по нем. Потом завернули его в алое урсовое одеяло, уложили на носилки, и двинулось шествие: впереди — четверо скороходов с блестящими нашлепками, за ними — повозка ручная с его любимчиком: старообразный мальчик, подслепый, еще некрасивее господина! А когда хозяина несли, к изголовью его склонился с крошечной флейтой музыкант и по дороге напевал какую-то песенку, точно нашептывал что-то ему на ухо.
Подивившись этому вдосталь, идем мы дальше и вместе с Агамемноном подошли ко входу, на косяке прибито небольшое объявление с следующей надписью: «Буде какой раб без хозяйского приказа из дому отлучится, причитается ему ударов сто». Тут же в дверях стоял привратник, сам в зеленом, а кушак вишневый — этот лущил горох на серебряном блюде. Над дверью висела золотая клетка, из которой пестрая сорока кричала входящим приветствие.
29. Заглядевшись на все это, я так запрокинул голову, что едва ног не сломал. Иначе и невозможно было, когда от входа налево, у каморки привратника, на стене нарисован был огромный пес, а над ним крупными буквами написано: «Злая собака!» Сотоварищи мои прыснули со смеху, а я, чуть пришел в себя, принялся, затаив дыхание, разглядывать прочую настенную живопись. На одной картине продавались гуртом рабы, каждый с ярлыком; сам Трималхион, еще подростком, вступал, держа жезл, в Рим, ведомый Минервою; дальше было про то, как научился он вести счета, как кассой стал ведать, — все это трудолюбивый художник добросовестнейшим образом снабдил надписями. В конце галереи Меркурий за челюсть втаскивал его на высокую трибуну. Здесь же присутствовала Фортуна с непомерным рогом изобилия и три парки, прядущие златую нить. Еще я заметил в портике кучку скороходов с учителем, их обучающим, а в углу увидал большой шкап: в его углублении вроде домика стояли серебряные лары, мраморное изваяние Венеры и золотой ларец весьма внушительной величины, в коем, как мне поведали, «сам» хранил первое свое бритье. Я спросил у старшего по атрию, что у них нарисовано посредине. «Илиас с Одюссией, — отвечал он, — да Лэнатов гладиаторский бой».
30. Очень многого так и не довелось рассмотреть; мы уже подошли к триклинию. При входе в него управляющий принимал счета, но особенно меня поразило, что на косяках двери, ведущей в триклиний, прибиты были пучки ликторских прутьев с секирами, а ниже выступало медное острие наподобие корабельного тарана с такой надписью: «Гаю Помпею Трималхиону, севиру августалов, от Киннама казначея». Ниже этой надписи свисала с потолка лампа в два фитиля, и две дощечки были еще укреплены на обоих косяках; на одной, если не изменяет мне память, стояло: «30 и 31 декабря наш Гай обедает в гостях», а на другой вычерчен был путь Луны и изображения семи планет; тут же цветными шариками были отмечены в списке дни счастливые и несчастные.
Накушавшись этих прелестей, мы делаем попытку вступить в триклиний, как вдруг один из слуг, для этого дела приставленный, вскричал: «Правой!» Мы, понятно, всполошились немного, как бы кто из нас не шагнул через порог, не сообразуясь с предписанием. Но когда мы наконец дружно шагнули правой, нам в ноги кинулся раздетый раб и стал упрашивать, чтобы выручили его из беды; невелика и провинность, за которую взыскивают: стащили у него в бане одежду казначея, а и вся-то цена ей десять штук! Пришлось нам с правой ноги вернуться и упрашивать казначея, который в своей выгородке подсчитывал золотые, чтоб отпустил рабу его провинность. Воззрившись на нас с важностию, тот отвечал: «Не в убытке для меня суть, но каково нерадение паршивого раба! Обеднишное мое платье прозевал, которое мне когда-то клиент один на деньрожденье подарил: тирийский, сами понимаете, пурпур, раз только стирано. Да чего уж! Только ради вас!»
31. Облагодетельствованные великим этим благодеянием, едва вступили мы в триклиний, как бежит нам навстречу тот самый раб, за которого мы хлопотали, и, не дав опомниться, осыпает нас неистовыми лобзаниями, изъявляя признательность за наше человеколюбие, а потом говорит: «Еще увидите, кому добро сделали: хозяйского вина слуга-распорядитель!» Наконец, мы возлегли. Александрийские мальчишки льют нам на руки снежную воду; их сменяют другие, принимаются за наши ноги и вычищают ногти с пугающим проворством. К тому же нелегкую эту должность они отправляли не молча, а попутно еще напевая. Тогда мне захотелось испробовать, неужели тут вся челядь так певуча, и я попросил пить. Сию же минуту подскочил мальчишка, и тоже с пронзительной песнью; так же и все они, чего бы ни спросить у любого, — словом, хор в пантомиме, а не прислуга за обедом отца семейства.
Подали, впрочем, очень недурную закуску. Между тем все уже возлегли, кроме одного Трималхиона, которому — неслыханная вещь — оставлено было первое место. Между блюдами закуски стоял ослик коринфской бронзы, на коем висели два вьюка: в одном были светлые, в другом темные насыпаны оливки. На спине ослик вез два блюда с вырезанным по краешку Трималхионовым именем и весом серебра, а на блюдах устроены были мостики, на которых лежали жареные сони, политые медом с маком. Кроме них поданы были на серебряной сковородке колбаски горячие с подложенными внизу сирийскими сливами и гранатовыми семечками.