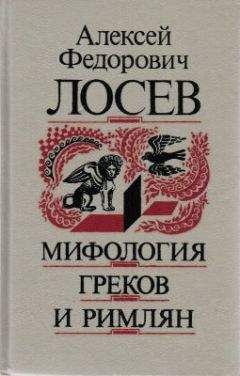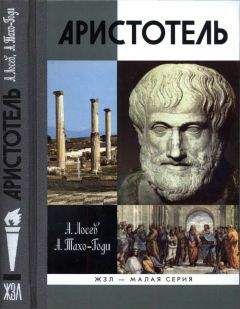13. А ты, пренебрегая этими великими и знаменитыми мужами, отвертя блестящие деяния, возвышенные речи, благородный облик, почести, славу, общую хвалу, почетные места в театре, влияние и власть, счастливую возможность обладать красноречием и умом, — ты: решаешься надеть какой-то грязный хитон и принять облик, достойный раба. Ты будешь держать в руках ломик, резец, молоток или долото, склоняясь над работой и живя низменно и в высшей степени смиренно; никогда ты не поднимешь головы, и никогда не придет тебе в голову мысль, достойная свободного мужа, и ты станешь заботиться только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивым вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней».
14. Она еще говорила, а я, не дожидаясь конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, радостный пошел к Образованности, тем более что я вспомнил палку и те удары, которые в немалом числе получил как раз вчера, когда начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, сперва негодовала, потрясая кулаками и скрежеща зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобу.
Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, не будьте недоверчивы: сны ведь — творцы чудес.
15. Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за справедливое решение нашего спора. Итак, взойди на эту колесницу, — она показала на колесницу, запряженную крылатыми конями, похожими на Пегаса, — и взгляни, чего бы ты лишился, если бы не последовал за мной». Только я взошел на колесницу, она погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, я стал озираться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, бросая на землю какие-то семена, подобно Триптолему. Теперь я уже не помню, что я, собственно, сеял, — знаю только, что люди, глядевшие снизу, хвалили и прославляли меня, когда я пролетал над ними.
16. Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, она вернулась со мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но, как мне показалось, какое-то роскошное одеяние. Разыскав моего отца, который стоял, ожидая меня, она указала ему на эту одежду и на мое новое обличие и напомнила, какое решение о моей будущности едва не вынесли родичи.
Вот что, мне помнится, я увидел, будучи еще подростком, — должно быть, из страха перед палкой.
17. Во время моего рассказа кто-то сказал: «О Геракл, что за сон длинный и пахнущий судебными делами!» А другой подхватил: «Да, сон, достойный зимней поры, когда ночи бывают длиннее всего, и, пожалуй, даже трехночный, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже одряхлели? К чему эти несвежие бредни? Не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и Ксенофонт как-то рассказывал о своем сне,16 будто показалось ему, что в отцовском доме вспыхнул пожар и прочее (ты это знаешь); он затронул это не декламации ради, не потому, что ему просто захотелось поболтать, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили его войско со всех сторон, — но потому, что рассказ этот был в какой-то мере полезен.
18. И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к лучшему и стремились к образованию. И кроме того, вот что для меня самое важное: если кто из них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, губя свои природные способности, то он, я совершенно уверен, услышав этот рассказ и взяв с меня добрый пример, наберется новых сил, помня, что я, хотя был таким мелким и ничтожным человеком, возгорелся стремлением к самому прекрасному и, нисколько не испугавшись своей тогдашней бедности, захотел быть образованным, а также увидев, что я теперь вернулся к вам во всяком случае не менее знаменитым, чем любой из камнерезов.
ЧЕЛОВЕКУ, НАЗВАВШЕМУ МЕНЯ «ПРОМЕТЕЕМ КРАСНОРЕЧИЯ»
1. Итак, ты называешь меня Прометеем. Если за то, что мои произведения — тоже из глины, то я признаю это сравнение и согласен, что действительно схож с образцом. Я не отказываюсь прослыть глиняных дел мастером, хотя моя глина и похуже качеством, ибо с большой дороги взята она и почти представляет просто грязь. Но если ты хотел превознести сверх меры мои произведения, конечно, за мнимо искусное их построение, и с этой целью, говоря о них, произнес имя мудрейшего из титанов, то смотри, как бы не сказали люди, что ирония и чисто аттическая насмешка скрываются в твоей похвале. В самом деле, откуда быть такими уж искусными моим созданиям? Что за избыток мудрости и прометеевской прозорливости в моих писаниях? С меня довольно было бы и того, что они не показались тебе чересчур уж землеродными и вполне заслуживающими Кавказского утеса. А между тем куда было бы справедливее сравнить с Прометеем нас, прославленных судебных ораторов, ведущих не вымышленные состязания. Ибо воистину живут и дышат ваши создания, и, клянусь Зевсом, насквозь проникнуты они огненным жаром. Вот их можно возводить к Прометею, с одной только, может быть, разницей: вы не из глины лепите, но большей частью из чистого золота.
2. Мы же, выступающие перед толпой и предлагающие слушателям наши чтения, показываем какие-то пустые призраки. Все это — только глина, как я сейчас говорил, куколки вроде тех, что лепят продавцы игрушек. А что до остального, то нет в моих произведениях отличия от ваших созданий, ни движения, ни малейшего признака души: праздная забава, детские побрякушки — вот наше дело. И потому мне приходит на ум, да уж не в том ли смысле ты назвал меня Прометеем, в каком прозвал так же Клеона комический поэт.17 Помнишь? Он говорит про него: Клеон — что Прометей, когда вершит дела. Да и сами афиняне имеют обыкновение «Прометеями» звать горшечников,18 печников и всех вообще глиняных дел мастеров, насмешливо намекая на глину и, очевидно, на обжиганье сосудов в огне. Вот, если это ты хотел сказать своим «Прометеем», твоя стрела пущена чрезвычайно метко и напоена едкостью чисто аттической насмешки, так как наши творения хрупки, как горшочки у всех этих гончаров: стоит кому-нибудь бросить маленький камешек — и все горшки разлетятся вдребезги.
3. А впрочем, может быть, кто-нибудь скажет, утешая меня, что не в этом смысле ты сравнил меня с Прометеем, но из желания похвалить новизну моих работ и отсутствие в них подражания какому-нибудь образцу, — совершенно так же, как Прометей выдумал людей, дотоле еще не существовавших, и вылепил их, придав этим существам такой вид и благоустройство членов, чтобы они были легки в движениях и приятны на взгляд. В целом этот художественный замысел ему самому принадлежал, но частично сотрудничала также Афина, вдохнувшая жизнь в глину и вложившая душу в лепные изображения. Так мог бы сказать человек, внося благое содержание в произнесенное тобой слово. И, может быть, таков был действительно смысл сказанного. Но я отнюдь не удовлетворюсь тем, что мои произведения кажутся новыми, что никто не может назвать какого-нибудь древнего образца, по отношению к которому они были бы как бы их порождениями. Нет, если в них не будет видно изящества, я сочту свои произведения, будь уверен, позором для себя и, растоптав, уничтожу. И новизна, если она безобразна, не поможет — в моих глазах, по крайней мере — и не спасет от истребления. Если бы я иных держался мыслей, то, по-моему, меня стоило бы отдать на терзание шестнадцати коршунам, как человека, который разумеет, что безобразие еще более безобразно, когда сочетается с необычайностью.
4. Так, Птолемей, сын Лага, привез в Египет две диковины: бактрийского верблюда, совершенно черного, и двуцветного человека, у которого одна половина была безукоризненно черной, а другая — до чрезвычайности белой, причем человек окраской был разделен как раз пополам. Созвав египтян в театр, Птолемей провел перед их взорами много всякой всячины, а напоследок показал и эти чудеса — верблюда и полубелого человека, думая, что присутствующие будут поражены этим зрелищем. Но зрители верблюда просто испугались и едва не убежали, повскакав со своих мест, хотя животное было сплошь украшено золотом и покрыто пурпурной тканью, а узда, драгоценными каменьями усыпанная, была, может быть, сокровищем Дария, Камбиза или самого Кира. Что же касается человека, то большинство разразилось хохотом, некоторые же проявляли отвращение, видя в нем нечто чудовищное. И понял тогда Птолемей, что он не имел успеха со своими диковинками, что новизна не вызывает в египтянах удивления и что выше новизны они ставят соразмерность частей и красоту целого.