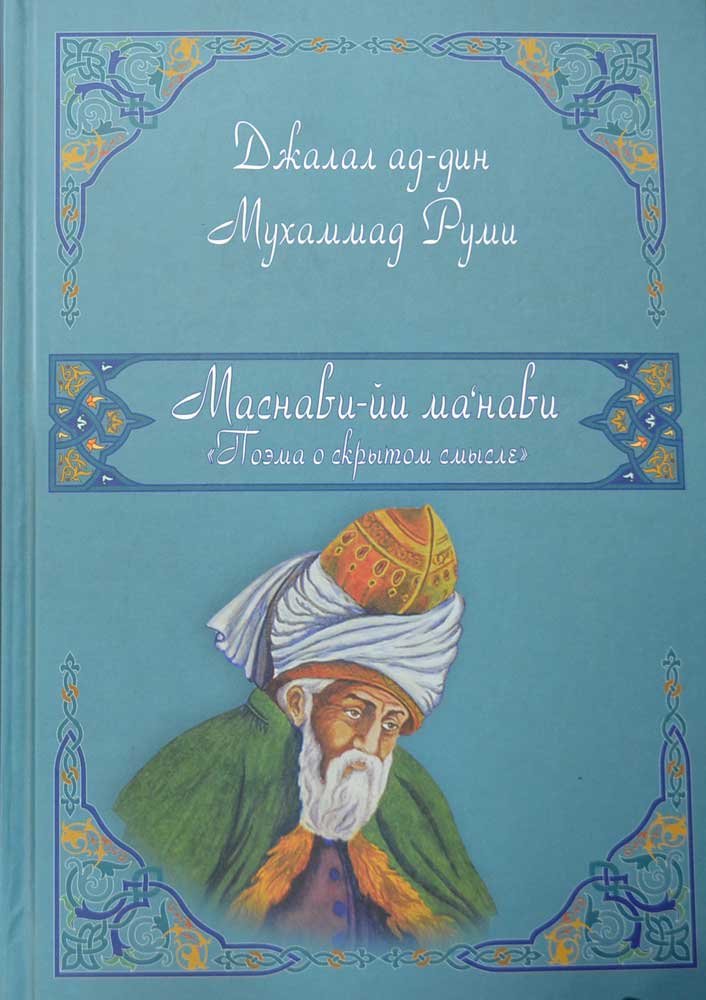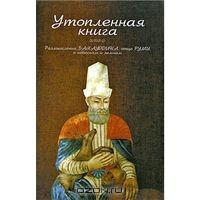Вы слышите свирели скорбный звук?
Она, как мы, страдает от разлук.
О чем грустит, о чем поет она?
«Я со своим стволом разлучена.
Не потому ль вы плачете от боли,
Заслышав песню о моей недоле.
Я — сопечальница всех, кто вдали
От корня своего, своей земли.
Я принимаю в судьбах тех участье,
Кто счастье знал, и тех, кто знал несчастье.
Я потому, наверно, и близка
Тем, в чьей душе и горе, и тоска.
Хоть не постичь вам моего страданья:
Душа чужая — тайна для познанья.
Плоть наша от души отделена.
Меж ними пелена, она темна.
Мой звук не ветр, но огнь, и всякий раз
Не холодит он — обжигает нас,
И если друг далек, а я близка,
То я ваш друг — свирель из тростника.
Мне устранять дано посредством пенья
Меж господом и вами средостенье.
Коль духом слабые в меня дудят,
Я не противоядие, но яд.
Лишь тем, кто следует стезей неложной,
Могу я быть опорою надежной.
Я плачу, чтобы вы постичь могли,
Сколь истинно любил Маджнун Лейли.
Не разуму доступно откровенье:
Людское сердце — вот ценитель пенья».
Будь безответною моя тоска.
Кто оценил бы сладость тростника?
А ныне стали скорби и тревоги
Попутчиками и в моей дороге.
Ушла пора моих счастливых лет,
И благодарно я гляжу им вслед.
В воде рыбешки пропитанья ищут,
А нам на суше долог день без пищи.
Но жизни для того на свете нет,
Кто ищет пищу в суете сует.
Кто лишь для плоти ищет пропитанья,
Пренебрегая пищею познанья.
Не очень сходны меж собою тот,
Кто суть познал, и тот, кто познает.
Порвите ж цепь, свободу обретая,
Хоть, может, эта цепь и золотая.
И ты умерь свою, стяжатель, прыть:
Ведь всей реки в кувшин не перелить.
И жадных глаз невежды и скупца
Ничем нельзя наполнить до конца.
Лишь раб любви, что рвет одежды в клочья.
Чужд и корысти, и пороков прочих.
Любовь честна, и потому она
Для исцеления души дана.
Вернее Эфлатуна и Лукмана
Она врачует дух и лечит раны.
Ее дыхание земную плоть
Возносит в небо, где царит господь.
Любовью движим, и Муса из дали
Принес и грешным людям дал скрижали.
Любовь способна даровать нам речь»
Заставить петь и немоте обречь.
Со слухом друга ты свои уста
Соедини, чтоб песнь была чиста.
Кого навеки покидает друг,
Тот, как ни голосист, смолкает вдруг.
Хотя напевов знает он немало,
Нем соловей в саду, где роз не стало.
Влюбленный — прах, но излучает свет
Невидимый его любви предмет,
И всякий, светом тем не озаренный,
Как бедный сокол, крыл своих лишенный.
Темно вокруг и холодно в груди,—
Как знать, что позади, что впереди?
Дли истины иного нет зерцала --
Лишь сердце, что любовью воспылало.
А нет там отраженья — поспеши,
Очисти зеркало своей души.
И то постигни, что свирель пропела,
Чтоб твой отринул дух оковы тела.
Тем некий лавочник любил хвалиться,
Что у него диковинная птица,
Что попугай и лавку сторожил
В тот час, когда хозяин уходил,
И забавлял своим словесным даром
Входивших в заведенье за товаром.
И в этот раз хозяин под призор
Ему оставил все, как до тех пор.
Сел попугай привычно на прилавок
Между мешков, кулей и всяких травок.
Но где-то кошка пробежала вдруг,
И попугаем овладел испуг.
Случилась неприятность с ним, ученым:
Бутыль разлил он с маслом благовонным,
Меж тем хозяин в лавку возвратился,
Учуял аромат и рассердился.
И так отделал птицу он со зла,
Что та лишилась своего хохла.
Сказать точнее — птица облысела.
От горя не пила она, не ела.
И, что гораздо хуже, замолчала,
О чем хозяин горевал немало:
«О солнце моего благополучья,
Стать лысым самому мне было б лучше!
Уж лучше бы сломать мне руку ту,
Что обрекла тебя на немоту!»
О том он дервишей просил молиться,
Чтоб к птице речь могла бы возвратиться.
Власы он рвал, стенал: «О, горе мне.
Умолкла птица по моей вине!»
Он редкие показывал ей вещи,
Но лысый попугай молчал зловеще,
Три темных ночи, три печальных дня
Промчались, ничего не изменя.