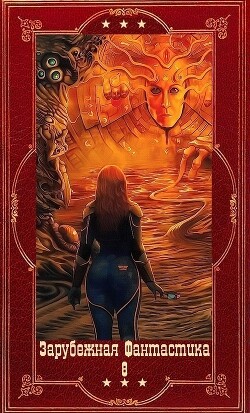седьмого месяца он уехал. За пять дней до этого он перестал заходить ко мне, поскольку, когда мы виделись, нам становилось ещё тяжелее. Более того, в день отъезда была такая спешка, что, когда время настало, он откинул мой занавес и сказал лишь: «Пора!» Мы взглянули друг на друга, и у нас потекли слёзы, а когда он вышел, то от мысли о разлуке у меня стало темно в глазах и я распростёрлась на полу. В этом положении и застал меня слуга отца, он ходил провожать его, а вообще-то был оставлен в столице. Он дал мне листок писчей бумаги, какие носят за пазухой:
Ах, если б сбывалось
Всё то, что загадано в сердце!
Тогда бы в разлуке осенней
Печальную прелесть
Мы отыскать смогли…
Только это и было написано, но от слёз я и этого не могла разобрать. Мне, которой даже в обычных обстоятельствах приходили на ум какие-то кособокие строфы, теперь уж тем более не найти было слов для ответа.
Нет, никогда
Помыслить не могла,
Что в этом мире,
Хотя бы на единый миг
Нам суждено расстаться!
Так, кажется, у меня сложилось.
Мы ещё реже стали видеть людей, чем прежде, и я целыми днями уныло и потерянно глядела в даль, представляя себе, где теперь отец. Путь его был мне знаком, и сердце полнилось безграничной тревогой и любовью. С рассвета до сумерек я не сводила глаз с гребней восточных гор.
В восьмую луну я решила затвориться для молитв в Удзумаса, но, когда наш экипаж отъехал от Первого проспекта, по пути нам попались две кареты, в которых сидели кавалеры, они, вероятно, ожидали кого-то, чтобы вместе отправиться в какое-то место. При нашем появлении они послали слугу передать:
Когда пойдём цветами любоваться,
Увидим ли мы Вас?
Кто-то из моих спутниц сказал, что было бы странно не ответить в подобном случае, и я велела слуге сказать только:
Ах, верно, нынче – тысячи цветов!
И сердце Ваше всем
им дарит склонность.
Что ж, Вам – в осенние поля, а нам…
И мы удалились.
Все семь дней, что я была в затворничестве, я думала лишь о том, кто шёл в это время по дорогам Адзума. Я наконец-то отринула глупые мечтания, и молитва моя была такова: «Пусть с отцом ничего не случится и мы увидимся!» – и, кажется, Будда соблаговолил её услышать.
Наступила зима, целыми днями шли дожди, а одним непроглядно тёмным вечером налетел сильнейший ветер, который разогнал облака, и на прояснившемся небе засияла луна. Стало видно, как под свирепыми порывами ветра кусты мисканта у нас под окном отчаянно трепещут и гнутся, так что им нельзя не посочувствовать:
Об осени, наверно, вспоминает,
Узнать бы его мысли! –
Полёг под зимней непогодой
Сухой мискант
С листвою облетевшей.
Из Адзума пришёл гонец:
«Новый губернатор совершал моления в храмах своей провинции, и мы были в глубине страны. Там я увидел равнину, по которой очень живописно текла река, и, хотя равнина простиралась широко, лишь в одном месте кучкой стояли деревья – необычная картина, и я прежде всего пожалел, что не могу показать её тебе. – А как эта местность называется? – спросил я, и мне ответили:
“Мы зовём это лесом Тоски-По-Ребёнку”.
Это было так созвучно моему настроению, что меня охватила грусть – я спустился с коня и несколько часов просто сидел и смотрел.
Своё дитя покинув,
Он так же, как и я,
Во власти дум.
Грустно глядеть мне на лес
Тоска-По-Ребёнку.
Вот что я чувствовал».
Излишне говорить, что чувствовала я, когда это читала. В ответ я послала:
Когда узнала я про лес тоски,
Дитя покинувшую гору
Я вспомнила:
Отец-гора Титибу
На диких тропах Адзума тоскует [64].
Я праздно проводила время в созерцании, а почему бы мне было не отправиться в паломничество? Матушка моя была очень старомодна и говаривала так: «В храм Хасэ [65] путь очень тяжёл. А на склонах Нарасака на нас могут напасть разбойники [66] – что ты тогда будешь делать? В Исияма трудный перевал – там, где застава… [67] А уж про гору Курама и говорить нечего, так там страшно [68]. Вот отец вернётся тогда ещё может быть…» Она относилась ко мне, как к какой-то чудаковатой особе, которую нельзя пускать к людям, смотрела на меня, как на обузу, – и я удивляюсь, что она согласилась на поездку в храм Киёмидзу [69]. Однако и там, по всегдашнему своему обыкновению, я не молилась о том, о чём следует, о вещах истинных. Был как раз праздник Хиган [70], от шума и толкотни я оробела и прилегла. Я впала в забытьё, и из щели между алтарным пологом и загородкой, отделяющей проповедника, явился мне монах в синем узорчатом одеянии, в парчовой шапке, и обутый – видно, что не простой монах. Он приблизился ко мне и произнёс: «Не ведаешь ты, какая печаль ждёт впереди – оттого и мысли твои о нестоящем…» – при этом вид у него был неодобрительный. Ни когда я смотрела, как он скрывается за алтарным покровом, ни когда уже очнулась, я не приняла это всё близко к сердцу, никому об увиденном не рассказала, и с тем вернулась домой.
Матушка распорядилась отлить зеркало высотой в один сяку [71], и, поскольку сама, якобы, не могла идти на богомолье, послала некоего монаха, чтобы он поднёс зеркало храму Хасэ.
– Три дня будешь молиться, а потом расскажешь нам, что ты увидишь во сне о будущем моей дочери, – так она ему наказала и отправила в храм, меня же в это время заставила соблюдать пост. И вот, монах вернулся:
– Я и помыслить не мог, чтобы явиться к вам без вещего сна, не представлял, как смогу прийти и сказать об этом, и посему молился истово, а когда заснул, то из-за алтарного полога явилась прекрасная, благородного облика женщина, облачённая в великолепные одежды. В руках у неё было пожертвованное вами зеркало, и, указывая на него, она спросила: «А есть ли к