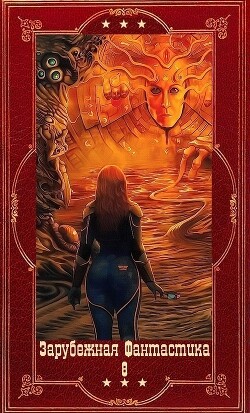этому зеркалу записка?» Я смиренно ответствовал, что, мол, записки не имеется, и вы изволили поднести только это зеркало. – Странно, записка должна быть. Итак, посмотрим, что здесь видно… Ах, как жаль, как грустно! – и она горько заплакала. Я заглянул и увидел кого-то, распростёртого в горестных рыданиях. – Это отражение уж очень печально, посмотрим теперь здесь, – и она показала мне отражение с другой стороны. Там видны были совсем новые, отливающие зеленью бамбуковые шторы, а из-под дамских занавесов, выставленных к самому краю веранды, выглядывали разноцветные края одежд. Цвела там и сакура, и слива, а на ветвях деревьев пели соловьи. – А это отрадная картина, не правда ли? – произнесла женщина, и это был конец моего сна.
Так поведал монах, но я не прислушалась и к этому знамению.
Однако даже в моём суетном сердце зародилась мысль о том, что сказал мне некогда один человек: «Молись богине Аматэрасу!» Я тогда не представляла себе, где обитает эта богиня, да и не будда ли это? Но мало-помалу я стала различать что к чему и спрашивать других. Мне сказали так:
– Это богиня-ками, а не будда. Обитает она в Исэ [72]. В стране Ки это то божество, которому служит управитель края [73]. Ну, а в императорском дворце этой богине молятся как прародительнице.
О том, чтобы добраться до края Исэ, и думать было нечего. Да и во дворце – как смогу я ей помолиться? И я, в беспечности своей, подумала, что достаточно будет возносить молитвы небесному светилу.
Одна наша родственница постриглась в монахини и ушла в обитель Сюгакуин [74]. Зимой я написала ей:
Не в силах справиться с собой,
Роняю слёзы,
Представлю только:
Горная обитель
Зимой во власти бурь.
Ответ был:
Сквозь заросли пробившись,
Однажды ты меня уж навестила,
Так загляни же в сердце:
Летний сумрак леса,
Когда все ветви густо заплелись». [75]
Отец мой, служивший в Адзума, преодолел все невзгоды и наконец-то вернулся в столицу. Уйдя на покой, он поселился в Восточных горах, и мы все к нему приехали – это была очень радостная встреча, и всю лунную ночь мы беседовали.
Что сбудется сегодняшняя ночь,
Что в нашем мире может так случиться,
Мечтать не смела
Той порой осенней,
Когда расстались мы с тобою.
Когда я произнесла эти стихи, отец расплакался и ответил:
Отчего все надежды мои
Не сбываются вовсе?
Так я сетовал горько на жизнь,
Теперь же я счастлив
И судьбою доволен.
Если вспомнить, как я горевала, когда отец дал мне понять, что мы расстаёмся с ним навек, то теперешняя моя радость, что я дождалась, и он вернулся невредим, была безгранична. Но отец сказал: «Я не раз замечал за другими – человек уж стар, одряхлел, а всё продолжает служить, и это выглядит очень неприятно. Мне следует отныне затвориться у себя дома и уйти от мирских дел». От этих слов, оттого, что отец решил, что для него ничего уже не осталось в этой жизни, я не могла не испугаться и чувствовала себя подавленно.
Там, где мы теперь жили, с востока были широкие равнины, окаймлённые горами: из-за вершины горы Хиэй выглядывала гора Инари и другие горы, – видно было очень далеко. С юга до наших ушей доносился грозный шум ветров в сосновом лесу на холмах Нараби [76], а возле самого дома, у подножия холма, слышались звуки трещоток, говорят, что они отпугивают птиц с поля, – я чувствовала себя словно в деревне, – и это было презабавно.
Ясными лунными ночами окрестности были очень красивы, и я любовалась ими до самого утра. Одна моя знакомая была теперь далеко, и от неё давно не доходили вести – как же была я удивлена, когда ко мне заглянул человек и передал от неё приветное слово, мол, здорова ли я, и тому подобное. Я велела сказать ей следующее:
О нас забыли,
Люди нас не навещают
В селенье этом горном,
Лишь ветер осени стучится
В ограду из кустов мисканта.
В десятую луну мы перебрались в столицу.
Матушка стала монахиней, и хотя она оставалась в одном с нами доме, но жила отдельно от семьи. Отец сделал хозяйкой меня, а сам словно отступил в тень и оборвал все связи с миром. Глядя на него, я чувствовала, что он едва ли может быть опорой, и это меня пугало. Как-то от близких нам людей, которые знали моё положение, пришла записка с приглашением ко двору: «Чем так вот бесцельно скучать и грустить, не лучше ли…»
Мой старомодный батюшка полагал, что служить при дворе тяжело, и не отпускал меня, но нашлись люди, которые сказали ему:
«Теперь в свете только так и можно продвинуться, все так делают нынче. К тому же, сам собой может подвернуться случай… Испытайте же судьбу!» И вот, скрепя сердце, отец позволил мне ехать во дворец.
Сначала я явилась всего на один вечер. Поверх восьми слоёв нижних одежд оттенка «хризантема» я была облачена в тёмно-пурпурный шёлковый верхний наряд. Всегда погружённая в чтение повестей, я не имела ни связей, ни знакомств в свете, и, живя под крылышком своих родителей, людей старого склада, я только и умела, что любоваться луной и цветами. Теперь, попав в общество, я сама себя не помнила, не зная, сон это или явь… На рассвете я вернулась домой.
Душою неискушённая провинциалка, я раньше думала, что, по сравнению с размеренной жизнью в родительском доме, я много интересного смогу увидеть и услышать, будут у меня и свои радости… Временами я и теперь на это надеялась, но привыкала к новому месту с трудом, и уже видно было, что меня ждали лишь разочарования. Хотя я это понимала, как мне было поступить?
В двенадцатую луну я снова поехала ко двору. На этот раз у меня была своя комната, и я прислуживала во дворце не один день. Иногда приходилось и ночь проводить в высочайших покоях, лёжа бок о бок с совсем незнакомыми дамами. Я не могла далее задремать от смущения и робости, и проливала слёзы, а на рассвете, ещё в темноте, возвращалась в свою комнату и весь день представляла,