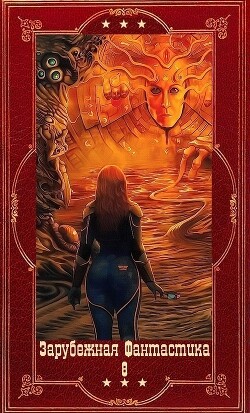большой огонь «хитодама» [128], который поплыл в сторону столицы, я решила, что он имеет отношение к кому-то из свиты. Мысль о том, что это очень дурной знак, совершенно не приходила мне в голову.
Отныне у меня не было других забот, кроме той, чтобы поднять на ноги младших детей.
На следующий год в четвёртую луну муж вернулся, мы были вместе лето и осень. Двадцать пятого числа девятого месяца он заболел, а пятого числа десятого месяца его не стало. Я была как во сне, за всю мою жизнь я не переживала подобного. Вот оно, отражение в зеркале храма Хасэ, та тень, распростершаяся на полу в рыданиях! А отражение, что сулило радость, так и не сбылось. И отныне ему уже не суждено сбыться…
Двадцать третьего числа ночью дым погребения без следа растаял в облаках. Воспоминания о том, как тогда, осенью, я любовалась нарядным сыном, следовавшим в свите отца, мешались с нынешней картиной: в чёрном-чёрном одеянии, со скорбной траурной накидкой поверх, сын шёл за катафалком, плача и плача…
Не подберу, с чем сравнить моё состояние, но мне казалось, будто я заблудилась в снах, и как знать – может быть, покойный видел меня в этот момент?
Если бы с ранних лет я не влеклась душою лишь к бесполезным сочинениям и стихам, если бы с утра до вечера помнила о молитве, совершала обряды, возможно, мне не пришлось бы увидеть эти сны тщеты земной. Во время моего бдения в храме Хасэ было мне сказано: «Веточка суги из храма Инари», – эту веточку дали мне не зря. Надо было тут же, не откладывая, совершить паломничество в Инари – тогда, быть может, всё сложилось бы иначе! Многие годы толкователи разъясняли мне, что в моём сне слова: «Молись богине Аматэрасу!» – сулят будущность кормилицы высочайших особ, жизнь во дворце, покровительство императора и императрицы, однако ничего из этого не сбылось. Лишь печальное отражение в зеркале оправдалось в точности – и горько это, и досадно…
Видно, такой уж я родилась – никогда не получалось в жизни по-моему, ничего достойного я не сделала, а поток влечёт всё дальше…
Да, жизнь земная быстротечна и хрупка, но мы живём! Со страхом гляжу я вперёд – неужели и в том, ином мире всё будет не так, как грезится? Лишь одно даёт мне надежду – тринадцатого числа десятого месяца, на третий год Тэнки, я увидела во сне Будду Амида [129], стоящего в саду перед нашим домом. Он не был виден отчётливо, его словно отделяла от меня туманная пелена, и, лишь напрягая взор, можно было разглядеть, что Будда восседал на лотосовом троне, возвышающемся на три-четыре сяку от земли, а ростом он был около шести сяку. От него исходило золотое сияние, и одну длань он словно бы простирал ко мне, а другой делал магический жест. Для всех остальных он был невидим, я одна его лицезрела и, трепеща в благоговении, не смела придвинуться поближе к краю своей ширмы, чтобы лучше его разглядеть. Глас Будды возвестил: «Итак, ныне я возвращаюсь, а в следующий раз приду за тобой», – но лишь я одна могла внимать этим словам, другие люди их не слышали. Когда я это поняла, то очень удивилась и сразу же очнулась от сна – это было четырнадцатого числа. Этот сон один даёт мне веру в грядущее.
Мои племянники прежде жили в одном с нами доме [130], мы виделись с ними и утром, и вечером, но после тех печальных и скорбных событий они разъехались кто куда и совсем не показывались. Как-то в безлунный тёмный вечер мой племянник из Рокухара [131] вдруг навестил меня. Это было так необычно, что у меня вырвалось:
Ведь сегодня месяца нет,
И темна сгущается ночь
Над вершиной Покинутой Старухи,
Над горою Обасутэ –
Так зачем ты сюда пришёл?» [132]
От дамы, с которой мы были очень дружны, после всего, что случилось, не пришло ни единой весточки.
Уж не подумала ли ты,
Что в этом мире
Среди живущих больше нет меня?
Горюя, плача и терзаясь,
Я всё еще живу…
В десятом месяце луна была необычайно яркой, а я, глядя на неё, плакала и плакала.
Беспросветно,
Пасмурно в душе,
Но и сердцу, ослеплённому слезами,
Видится сиянье это –
Лунный лик!
Прошли месяцы и годы, но стоит мне вернуться к тем дням, похожим на сон, как сердце приходит в смятение, в глазах темнеет, и всё, как было, отчётливо вспомнить я не могу и теперь.
Все разъехались, а в старой усадьбе осталась я одна, и в ночь, когда тоска и тревога не давали мне заснуть, я написала той, от которой давно не имела вестей:
Зарастает двор,
С полынь-травы
Некому росу отряхнуть.
Люди не приходят сюда,
Плачу в голос я, не стыдясь.
Она была монахиня и ответила:
Двор, полынью заросший –
Это ведь мир людей,
Загляни же, попробуй,
В сад отринувших тщету –
Только травы и травы!
Ки-но Цураюки. Дневник путешествия из Тоса в столицу
Говорят, что писание дневников – ведь их так именуют – дело мужчин, а теперь женщина пытается сделать это.
В некий год, в первый день по двудесятому дню последней луны года, в час Пса [134] оставили мы ворота. Я начинаю описывать понемногу обстоятельства нашего странствия.
Один человек, когда подошли к концу четыре… нет, почти пять лет его службы в провинции, завершил всё, что надлежало ему по должности, получил от своего преемника разрешительные бумаги, после чего освободил ведомственный дом, где проживал он всё то время, и выехал к пристани, чтобы взойти на корабль.
Все: и знакомые, и незнакомцы – пришли его проводить.
Ну а те, с кем его долгие годы связывала тесная дружба, огорчённые близкой разлукой, день напролёт провели в хлопотах, брались то за одно, то за другое, так что ночь наступила среди шума и суеты.
В 22-й день воздвигаем обеты, молясь о благополучной дороге, хотя бы до Идзуми.
Фудзивара-но Токидзанэ, несмотря на то что путешествовать нам предстоит кораблём, «направил на путь