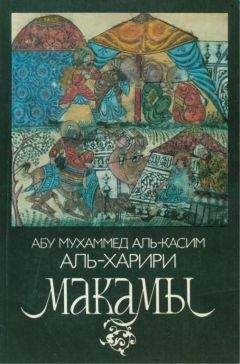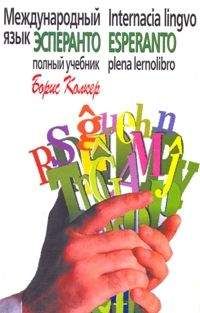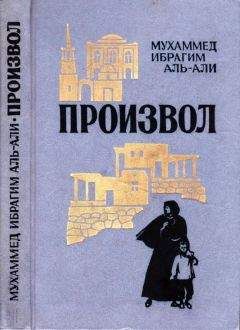Говорит рассказчик:
— Когда хозяин прислушался к его стихам и внял его удивительным словам, стал он так горестно вздыхать, что начали все вокруг рыдать. Потом он сказал:
— Этот невольник мне как родной сынок, словно моего сердца кусок! Если б мой дом не был теперь пустым, если б от очага моего поднимался дым, я бы не выпустил его из гнезда, пока не закатится жизни моей звезда. Видишь, как он кручинится от разлуки, как от горя кусает руки? Люди благочестивые добры и мягки душой, всегда они выполняют милосердия долг святой. Ради Аллаха, печаль ты мою развей, обещая расторгнуть сделку по первой просьбе моей. Не считай это трудным и не сердись — ведь об этом есть достоверный хадис[240]: «Если кто, раскаявшись, недействительной сделку признает, ошибки его Аллах недействительными считает».
Сказал аль-Харис ибн Хаммам:
— Я дал ему обещание — стыдно было бы отказать, но про себя подумал, что сделку не стану ни за что расторгать. Притянув к себе юношу, старик его крепко поцеловал и, обливаясь слезами, сказал:
Ты терзанья и страхи, мой друг, укроти,
Постарайся душе утешенье найти.
Быть недолго тебе у чужих взаперти —
Не промедлят верблюдицы встречи в пути!
Взор надежды к всевышнему ты обрати!
Потом он добавил:
— Не тужи, хозяина славного тебе я нашел!
Полы свои подобрал и ушел. А у юноши слезы все так же обильным потоком текли, пока старик не скрылся вдали. Когда же невольник от слез утомился и ливень его прекратился, он ко мне обратился и спросил:
— Как ты думаешь, почему я слезы лил?
Я ответил:
— Разлука твоя с господином гореванья и слез причина.
Он возразил:
— Нет, я в одной, ты в другой долине[241]! Разница велика меж оазисом и миражем в пустыне!
Потом продекламировал:
Не о разлуке горько мне рыдать
И не о том, кто мне отец и мать, —
Нет, о глупце, что всем глупцам под стать,
Разумной речи не хотел внимать!
Позора он не сможет взбежать,
Ему пропавших денег не видать!
Иль слов моих не смог ты разгадать?!
Свободный я, нельзя меня продать —
Ведь в имени намек легко понять[242]!
Говорит рассказчик:
— Я сначала подумал, что это веселая шутка, но скоро от речи юноши стало мне жутко: он упорно настаивал на своей правоте и обвинял меня в слепоте. Мы стали сражаться: сначала словами, потом руками, и тогда дело дошло до суда. Судье мы суть дела прояснили и все по порядку изложили. Он сказал:
— В предупреждении — извинение, предостережение влечет за собой снисхождение, а предварение не есть упущение. В его словах было для тебя назидание, ты же не обратил внимания. Глупость свою напоказ не выставляй, лишь самого себя упрекай и этого юношу за невольника не считай: он свободного происхождения, противны ему унижение и принуждение. Я запомнил его лицо: вчера вечером он приходил с отцом, отец его сыном единственным объявил и все наследство за ним закрепил.
Я спросил у судьи:
— А знаешь ли ты отца этого молодца, да опозорит их обоих Аллах и да пошлет им мученья и страх!
Он ответил:
— Кто же из судей Абу Зейда не знает?! Каждого этот шейх донимает!
Я стал призывать на помощь Аллаха и зубами скрипеть с досады, да, видно, думать раньше мне было надо, раньше понять, что его покрывало было лишь хитрой уловкой, стихом плутовской касыды[243], составленной ловко. Опустил я глаза от стыда и поклялся, что с теми, кто скрывает лицо покрывалом, дела не буду иметь никогда. Оплакивал я убытки, горько вздыхая, насмешки друзей своих предвкушая. Сказал судья, видя горе мое и тревогу:
— Успокойся же, ради бога: ты убытком не считай поучение, ведь тот, кто твою осмотрительность пробудил, не совершил преступления. Уроки полезные из этого извлекай, от друзей оплошность свою скрывай, но всегда вспоминай, какое постигло тебя наказание; в твоей потере — для тебя назидание! Следуй тому, кто в несчастьях проявляет терпение и слушает поучения!
Сказал аль-Харис ибн Хаммам:
— Душу свою в одежды стыда и печали я облачил и полы собственной глупости повлачил. Обиженный Абу Зейдом, решил я с ним навеки порвать и ему при случае об этом сказать. Стал я дом Абу Зейда обходить стороной и к нему поворачиваться спиной, пока не привели меня ноги к встрече с шейхом на узкой дороге. Он по-дружески бросился ко мне с приветом, а я нахмурился и оставил его без ответа. Он спросил:
— Что же ты друзей обижаешь, своим невниманием унижаешь?
Я воскликнул:
— А ты забыл, как ты скверно надо мной подшутил?
Абу Зейд улыбнулся снисходительно и сказал примирительно:
В обращенье твоем на враждебность намеки,
Словно стал я тебе и чужим и далеким,
Оснащаешь ты перьями стрелы укоров,
Истерзает мне душу полет их жестокий.
Мне пеняешь, что вывел я сына на рынок,
Слез фальшивых о нем проливая потоки, —
Я не первый придумал такую продажу,
Не ко мне обращай свои злые упреки:
До меня, ты припомни, потомки Якуба
Брата продали в рабство, они ведь — пророки[244]!
Я клянусь тебе Меккой, куда караваны
Держат путь и паломник спешит одинокий[245],
Я клянусь обходящими Каабу[246] святую,
Чтобы долг перед богом исполнить высокий —
Было б вдоволь дирхемов — не знал бы позора
И не стал бы слагать я обманные строки.
Ты уж друга прости, не читай наставлений —
Не нужны мне, поверь, поведенья уроки.
Затем он сказал:
— Я заслужил снисхождение, а ты своих денег не жди возвращения. Если ты от беседы со мной уклоняешься, потому что за деньги оставшиеся опасаешься, то ведь я не из тех, кто дважды жало свое выпускает и на горящие уголья человека дважды толкает. Ну а если не в этом дело, если скупость тебя одолела и ты мечтаешь спасти то, что попало ко мне в суму, — то пой марсию[247] уму своему!
Сказал аль-Харис ибн Хаммам:
— Он заставил меня уговорами плутовскими и чарами колдовскими на него опять с любовью взглянуть в дружбу ему вернуть, забыть, как он подшутил надо мной, и больше не вспоминать об этой проделке злой.
Перевод А. Долининой
Ширазская макама
(тридцать пятая)
Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:
— Бродя по Ширазу[248] как-то раз, я увидел компанию — усладу для глаз. Прохожий мимо не мог пройти, куда б ни спешил на своем пути. И ноги сами понесли меня к ней, чтобы выведать поскорей, где запрятан алмаз ее речей, и чтобы отведать, какие плоды принесут столь прекрасные цветы. Такое собрание где еще встретишь, где столько полезных мыслей приметишь! Показалась мне их беседа отрадной, словно сок хмельной лозы виноградной.
Вдруг смотрим: в общество наше проник какой-то оборванный дряхлый старик. Он приветствовал нас красноречиво, всем поклонился учтиво, сел средь собравшихся, обхватив руками колени, и сказал:
— О Аллах, избавь нас от прегрешений!
Но все глядели на лохмотья его с презрением, забыв полезное поучение: не внешность мужа внушает почтение, а лишь язык в сердце — хоть ростом они малы — достойны хвалы или хулы. Каждый шутил над ним в был готов сжечь сандал его речи вместо дров. Но старик не выдал им ни намеком, с кем они обходились так жестоко: шутникам он дал себя поразвлечь, то, что скрыто внутри, — наружу извлечь, поджидая, чьи весы перетянут и когда опустеют остроумья колчаны. А потом он собравшимся сказал:
— Да если б из вас кто-нибудь знал, что за тканью, которой затянут кувшин, напиток чистый, словно рубин, вы над рубищем нищего бы не глумились, а недолей его огорчились.
И пустил он красноречие биться ключом, утонченные речи его зажурчали ручьем. Слов таких удивительных нигде не сыскать — только золотом можно их записать! Каждое сердце он покорил, каждую печень он растопил, а потом вдруг поднялся, уйти собрался, нас покинуть решил, заспешил. А мы ухватили его за подол, чтобы он не ушел:
— Показал ты нам остроумье свое — стрел остро отточенное острие, так и мудрые мысли твои подари нам — и кожуру их, и сердцевину!
Он, словно обиженный, замолчал, потом вдруг заплакал и зарыдал, так что каждый жалеть его стал. Но я уловил, что в речи своей смешал он и мед и яд — а искусством таким один Абу Зейд богат — и ливень обильный красивых слов он в любую минуту пролить готов. И хоть был перед нами старик безобразный, дурно пахнущий, изможденный и грязный, приглядевшись, я в нем Абу Зейда узнал, но тайну его выдавать не желал и явные козни его, как постыдный недуг, скрывал. Когда же старик перестал рыдать и понял, что смог я его разгадать, заговорил он с легкой усмешкой в глазах, а голос его тонул в притворных слезах:
Прости, Аллах, меня, помилуй —
Снести грехи не хватит силы!
Ах, сколько девственниц-затворниц
Я загубил и свел в могилу!
Никто не мстил мне за убитых,
Родня и пени не просила,
А обвинят меня в злодействе —
Я отвечал: «Судьба сгубила!»
Так я грешил, не зная страха,
Пока душа не поостыла
И волосы мои густые
Оделись сединой унылой.
С тех пор затворниц я не трогал,
Отбросил прочь, что прежде было.
Взгляните, люди, как я беден,
Как тягостен мой рок постылый!
Теперь я сам ращу девицу,
Что всех бы прелестью пленила, —
Затворница, скромна, невинна,
И ей жених сыскался милый.
А чтобы к жениху невеста
Под пение рабынь входила
И чтоб снабдить ее приданым,
Мне б сотни дирхемов[249] хватило.
Увы — в ладонях нет ни фельса[250],
Все реки бедность иссушила!
О, кто мне успокоит сердце,
Заботы смыв целебным мылом?!
Душистой я воздам хвалою,
Что вознесется ввысь, к светилам!
Сказал рассказчик: