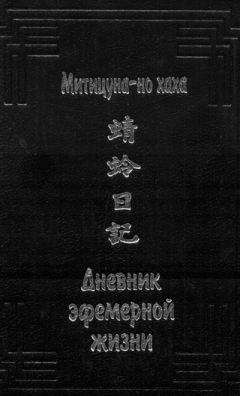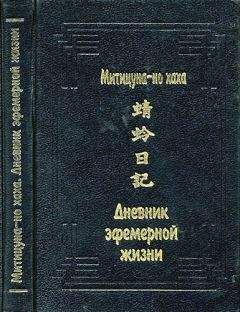На русском языке его полный перевод публикуется впервые.
Митицуна-но хаха
Дневник эфемерной жизни
Времена, когда все это было, прошли. Проводила свою жизнь некая особа, у которой мирские привязанности были так непостоянны, а все вокруг было исполнено такой неуверенности!
Внешностью она была совсем непохожа на других людей, да и нельзя сказать, чтобы отличалась рассудительностью и благоразумием — все это, может быть, и так, но когда эта особа с рассветом или при наступлении сумерек начинала читать те старинные повествования, которых так много распространяется в этом мире, то обнаруживала в них всего-навсего многочисленные небылицы.
Иногда хочется знать, какова жизнь у той, что связана с человеком самого высокого положения[1]. Но подчас и далекие годы, и дела недавнего времени не вспоминаются отчетливо, и тогда многое приходится описывать так, как оно должно было происходить…
Лето восьмого года Тэнряку (954 г.).
Так вот, получала я и прежде мимолетные признания в любви, — все это так, только на сей раз решили узнать, что стану я отвечать тому, кто возвышается над рядовыми людьми, как высокий дуб над прочими деревьями.
Обыкновенный человек предложение о браке делает либо через подходящего посредника, либо через служанку; этот же господин то в шутку, то всерьез сам стал туманно намекать моему родителю, а потом, словно не ведая о моих словах о том, что брак между нами никак невозможен, прислал верхового, и тот принялся истово стучать в наши ворота. Послали узнать, кто это там, но в ответ раздался такой шум, который не оставлял сомнений в его происхождении. Тогда мои служанки взяли у верхового послание и ужасно переполошились. Взглянув на него, я больше всего удивилась, что бумага там не такая, какая принята в подобных случаях, а почерк, о котором я издавна была наслышана как о безупречном, оказался настолько плох, что вызывал сомнение, сам ли Канэиэ написал это письмо. А слова в нем были такие:
Лишь речи о тебе
Заслышу я, моя кукушка,
Так грустно делается мне…
О, как мечтаю я сердечный
С тобою разговор вести!
— Надо как-то отвечать, — стала советовать моя старомодная матушка. Я послушно согласилась: «Ладно!» — и написала так:
В селеньи одиноком,
Где не с кем перемолвиться,
Ты не старайся куковать —
Лишь попусту
Сорвешь свой голос.
Осень того же года.
С этого началось. Снова и снова присылал мне Канэиэ свои письма, но от меня ему ответов не было, и он прислал мне такое:
Ты — словно водопад Беззвучный,
Отонаки.
Не ведая,
Куда стремятся струи,
Я все ищу в них брод…
На все это я говорила только одно:
— Немного погодя отвечу, — так что Канэиэ, кажется, совсем потерял выдержку и написал мне:
Не зная срока,
Жду и жду ответа —
Сейчас… а может быть, чуть позже?
Но нет, его все не приносят,
И мне так одиноко!
Тогда моя матушка, человек старинных обыкновений, заявила:
— Его письма — большая для тебя честь. Следовало бы отвечать сразу.
Я велела одной из своих служанок написать подобающее письмо и отослала его. Однако и оно вызвало у него искреннюю радость, и послания от Канэиэ стали приносить одно за другим.
Одно из посланий сопровождалось стихотворением:
Следы куликов
На морском берегу
Я не вижу за кромкой прибоя.
Может быть, оттого,
Что волны вздымаются выше меня?[2]
Я и на этот раз сплутовала, велев написать ответ той же служанке, которая сочиняла серьезные ответы на послания Канэиэ. И вот опять он пишет: «Весьма тебе благодарен за такое серьезное письмо, но если ты и на этот раз писала его не сама, это было бы так для меня огорчительно!» — и на краешке этого послания прибавляет:
Хоть сердцу радостно
От твоего письма,
Кто б ни писал его на самом деле,
На этот раз пиши его сама —
Твой почерк я не знаю ведь доселе…
Но я, как всегда, отослала ему подставное письмо. И в такой ничего не значащей переписке проходили дни и месяцы.
Наступила осенняя пора. В присланном мне письме Канэиэ написал: «Мне грустно оттого, что ты представляешься такой рассудительной; и хоть меня это заботит, я не знаю, как быть дальше.
Живя в селенье,
Где не слышен даже зов оленя,
Глаз не сомкну.
Как странно — неужели невозможно
Увидеться с тобой?»
В ответ я написала только одно:
Не доводилось слышать мне,
Чтоб часто просыпался
Тот, кто живет
Возле горы Такасаго,
Что славится оленями.
Воистину, странно! Немного погодя, опять его стихи:
Застава Склона встреч,
Афусака,
Как будто приближается ко мне,
Но все ее не перейти[3].
Живу, скорбя об этом.
А утром третьего числа:
Роса —
Она легла перед рассветом,
Но тает вся нежданно,
Едва приходит утро.
Так таю я, домой вернувшись.
Мой ответ:
Вы говорите,
Что подобны
Росе, всегда готовой испариться.
Куда ж деваться мне? —
Я полагала, в Вас найду опору!
Между тем, однажды получилось так, что я ненадолго отлучилась из дому, он же без меня пожаловал и ушел наутро, оставив записку: «Я надеялся хоть сегодня побыть с тобою наедине, но нет о тебе вестей. Что же случилось?! Не укрылась ли ты от меня в горах?». Я отвечала кратко:
Когда цветок поломан
У ограды
В нежданном месте, —
С него росинки слез
Стекают беспрестанно.
Пришла девятая луна. На исходе ее, когда Канэиэ не показывался ко мне две ночи кряду, он прислал лишь письмо. На него я отвечала:
Роса, что тает так нежданно,
Еще чуть держится.
На рукаве
Она с дождем соединилась,
Что утром оросил рукав.
С тем же посыльным Канэиэ прислал ответ:
Моя душа,
Тоскуя о тебе,
Взлетела и пронзила небо.
Не оттого ль
Сегодня так дождливо?
Когда я заканчивала свой ответ на это, появился сам Канэиэ.
Еще немного погодя, после перерыва в наших в ним встречах, в дождливый день, Канэиэ прислал сказать что-то вроде: «Как стемнеет — приду». Я написала ему:
Трава, что стелется
Под рощею дубовой,
Вас непрестанно ждет.
Я буду вглядываться в сумерки, едва придут, —
Не Вы ль надумали пожаловать…
Ответ он принес сам лично.
Наступила десятая луна. Я находилась в очистительном затворничестве[4], и Канэиэ сообщал, что оно тянется медленно:
Тоскуя по тебе,
Одежду перед сном надену наизнанку[5].
И вот на ней роса.
А небо дождик
Замочил слезами.
Ответ мой был весьма старомодным:
Когда б ее сушил
Огонь любви,
Она давно бы сделалась сухою.
Так отчего не высохли одежды,
Что оба мы надели наизнанку?!
Как раз в эту пору родной мой отец отправлялся служить в провинцию Митинокуни[6].
То время года было преисполнено печали. К мужу я еще не привыкла и всякий раз, когда встречалась с ним, только обливалась слезами, а грусть, которая охватывала меня, была ни на что не похожей. Видя это, весьма растроганный Канэиэ твердил мне, что никогда не оставит меня, но мысль о том, могут ли чувства человека следовать его словам, заставляла мое сердце лишь печалиться и сжиматься еще больше.
Наступил день, когда отец должен был отправиться в путь, и тут он, уже собравшись, залился слезами, и я, которой предстояло остаться, впала в неизбывную печаль. Отец не мог выйти, пока не произнесли: «Пришла пора отправляться!». Тогда он свернул трубочкой послание и положил его в тушечницу, стоявшую под рукой, а потом снова залился слезами, переполненный чувствами, и вышел. Некоторое время я не открывала коробку и не могла заставить себя посмотреть, что там написано. Когда же проводила отца окончательно, то подошла к коробке и посмотрела, что отец написал. Это были стихи для Канэиэ:
Вас одного прошу,
В путь пускаясь далекий, —
Оставайтесь опорой
Ей на долгие-долгие годы.
Там, вдали, лишь о вас буду думать!
«Пусть это увидит тот, кто и должен увидеть», — подумала я и, охваченная безмерной печалью, положила письмо на прежнее место, а вскоре ко мне пришел и Канэиэ. Я не подняла глаз, погруженная в свои думы, и он произнес в изумлении: