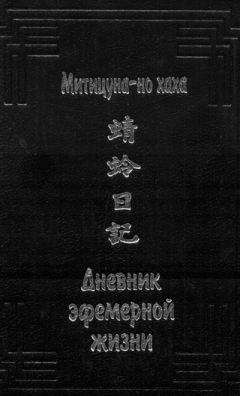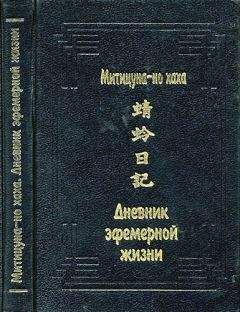Тогда я придвинула к себе тушечницу и написала:
Поблекший лист,
Когда настанет осень,
Еще печальней станет!
А на деревьях нижний лист
Одну печаль приносит.
Он не переставал заходить ко мне по дороге к другой, однако мы уже не поверяли друг другу то, что лежит на сердце, а случалось, что Канэиэ приходил ко мне, а расположение духа у меня было дурное, и он, постояв молча, как гора Татияма[11], скоро возвращался восвояси. Близкий мой сосед, которому было известно истинное положение вещей, встретив однажды Канэиэ, когда тот уходил от меня, сложил:
Я вижу — дым от огня
У солевара
Опять встает столбом,
И думаю — не ревность ли
Пылает в том огне.
Так я обнаружила, что наши отношения стали достоянием соседей. В ту пору я особенно долго не видела Канэиэ.
У меня появилась такая привычка, которой прежде не было. Я стала так глубоко задумываться, что, бывало, оставлю где-нибудь любимую вещь, а потом смотрю прямо на нее — и не замечаю. «Может быть, между нами уже все прервалось; есть ли что-либо, что напоминает мне о Канэиэ?» — так я думала, и это продолжалось дней десять, когда вдруг пришло письмо. В нем говорилось о том о сем, и в числе прочего: «Возьми стрелу для спортивного лука, что привязана к стойке спального балдахина», — и тогда я подумала, что эта стрела и есть напоминание о нем, и развязала тесьму.
Казалось мне,
Настанет вряд ли время,
Чтобы внезапно вспомнить о былом.
Но вот — стрела…
Как память поразила!
Это послание я прикрепила к стреле и отправила Канэиэ.
А в ту пору, когда встречи между нами прервались, мой дом как раз выходил на дорогу, по которой он ездил ко двору, поэтому то среди ночи, то на рассвете Канэиэ проезжал мимо него, отрывисто покашливая. Он думал, что я не слышу этого, но до моих ушей доносилось все это, и сон не шел ко мне. Как сказано: «Ночь длинна, но мне не спится»[12]. На что было похоже чувство от таких видений и звуков? Теперь я подчас думала о том, как хотелось бы мне жить там, где его не видно и не слышно. До меня доносилось, как мои люди говорили между собою: «Неужто тот, кто прежде бывал здесь, теперь оставил ее?». Я не придавала этому значения, только с наступлением темноты мне делалось очень одиноко…
Было слышно, что в доме главной госпожи, где, как говорили, было много детей, он совсем перестал бывать. «Ах! Ей еще тяжелее, чем мне», — думала я, проникнувшись состраданием к главной госпоже. Дело было около девятой луны. Вложив в стихи все свои чувства, я написала:
Меняет направленье
С дуновеньем ветра
Нить паутины.
Дорога паука,
Как видно, оборвется в пустоте.
Ответные слова были краткими:
Когда изменчивое,
Легкомысленное сердце
Вижу я,
О ветре
Разве думаю всерьез?!
Насовсем Канэиэ меня не оставлял, время от времени мы с ним виделись, — с тем и наступила зима. Ложилась ли, пробуждалась ли ото сна, я только и делала, что забавлялась со своим ребенком и незаметно для себя напевала: «Я как-нибудь задам вопрос малькам форели из садка»[13].
Год опять сменился, и наступила осень. В это время Канэиэ забыл у меня рукописный свиток, который читал тогда и с которым ко мне пришел. Он прислал за ним. На бумаге, в которую я завернула рукопись, я написала:
А ежели сердца
Внезапно охладели,
Они — как те следы,
Что тысячами птиц
Оставлены на берегу песчаном.
В ответ он прислал объяснение:
Ты полагаешь,
Сердце остывает,
Когда лишь кулики[14]
На берегу
Оставили следы?
Пока посыльный ждал, я написала:
Вы думаете,
Надо мне искать
Лишь куликов следы.
Но жаль, что неизвестно,
Куда ведут они…
Так мы и общались. А между тем наступило лето, и в это время у женщины с городской улочки родился от Канэиэ ребенок. Определив благоприятное направление[15], он сел с нею в один экипаж и, подняв на всю столицу шум, с непереносимым для слуха галдежом проехал также и мимо моих ворот. Я была сама не своя — не проронила ни слова, но те, кто видел все это, начиная с моих служанок, громко возмущались:
— Какое беспокойство все это доставляет! Сколько на свете других дорог, чтобы ездить по ним!
Когда я слышала их, то думала даже, что лучше бы мне умереть. Однако обстоятельства никогда не складываются так, как думаешь. Поэтому в голову ко мне стали приходить горестные размышления о том, что уж лучше мне отныне и впредь никогда не видеть Канэиэ, раз я не могу составить соперничество другой. Дня через три-четыре пришло письмо. Когда я, неприятно пораженная бессердечием Канэиэ, просмотрела это письмо, то обнаружила в нем: «Это время было неблагоприятным для наших встреч, поэтому я не мог приходить. Но вчера благополучно совершились роды. Однако я думаю, что ты станешь избегать меня, пока продолжает действовать осквернение[16]». Моему чувству стыда и возмущения не было предела. Я вымолвила только: «Все в порядке». А после того, как мои люди расспросили посыльного, и я услышала, что родился мальчик, у меня стеснилось дыхание. Прошло дня три или четыре, и Канэиэ решился на совсем бессердечный поступок — пришел показаться сам. Я даже не вышла взглянуть, с чем он пожаловал, и он очень скоро удалился. Потом это повторялось часто.
С приходом седьмой луны, когда стали близиться состязания по борьбе, Канэиэ прислал ко мне завернутые в узел две вещи — старую и новую, передав на словах что-то вроде: «Пусть это сошьют!».
Старомодная моя матушка заметила по этому поводу:
— Ах, какая жалость! Видимо, там для него этого не могут сделать.
— Там же собрались одни неумехи, — говорили другие, — ничего вообще не надо делать, лучше услышать, как они там бранятся!
На том и порешили: все отослали назад, а после узнали, что шитье разделили и выполнили в разных местах. Там, видимо, сочли меня бесчувственной: больше двадцати дней Канэиэ не давал о себе знать.
Потом по какому-то случаю пришло письмо: «Я хотел бы навестить тебя, но испытываю неловкость. Если ты скажешь: „Хорошо, приходи“, — преодолею нерешительность». Я думала было оставить письмо без ответа, но мне отовсюду стали говорить: «Это очень безжалостно, это слишком», — и я написала:
Тому, кто клонится
Свободно,
Как трава под ветром,
Теперь уж вряд ли я скажу,
Что я слабей травы.
И он прислал ответ:
Едва лишь
Призывно склонятся
Метелки травы
От восточного ветра, —
Я повинуюсь тотчас.
С тем же посыльным я отправила ему стихи:
Согнулись от бури
Метелки травы
У моего жилища.
Не говорю я тебе —
Не приходи!
Такими словами я выразила свое согласие, и Канэиэ снова появился у меня в доме.
Однажды, наблюдая из постели, как перемешаны разнообразные цветы, что распустились перед моим домом, я произнесла (должно быть, мы испытывали недовольство друг другом):
Гляжу на это разнотравье.
Но срок придет,
И белая роса
Красу цветов
Укроет без разбора.
Он ответил:
Своею осенью
Еще я не пресыщен.
Словами о цветах
Не выразить
Того, что на душе.
Так мы переговаривались, между нами сохранялись неприязненные отношения, мы таились друг от друга.
Когда луна, которая в эту пору восходит поздно, вышла из-за гребней гор, Канэиэ дал понять, что собирается уходить. Должно быть, чем-то мой вид показывал, будто я считаю, что нынешней ночью этого не произойдет. Чтобы он так не думал, несмотря на его слова: «Ну, если мне надо здесь остаться ночевать…» — я сочинила:
На гребнях гор
Не остается
Полночная луна,
Что поднимается
В небесные просторы.
Его ответ:
Мы говорим,
Что поднимается луна
На твердь небесную.
Но простираются лучи
До самого речного дна.
После этих своих слов Канэиэ остался у меня ночевать.
Вскоре разбушевалась сильная осенняя буря, так что прошло всего два дня, и Канэиэ пришел опять[17]. Я высказала ему замечание:
— Большинство людей уже присылали узнать, как я чувствую себя после той бури, которая была накануне.