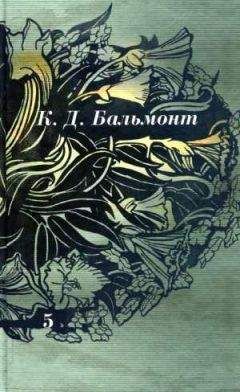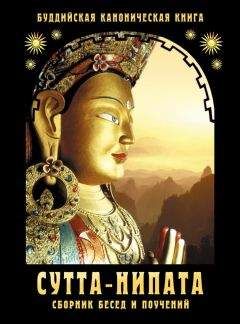И молча смотрели на облик красивый,
Не беглым был взгляд их очей,—
Смотрели, как лани, что в чаще осенней,
Увидя охотника, ждут,
Царевич же стройный, царевич красивый
Застыл, как утес золотой.
В сомненьях танцовщицы медлили, ждали,
Велит ли он петь и играть,
И в сердце их — страхом удержано чувство,
Так медлит олень за кустом.
И день уж бледнел и бледнел постепенно,
Сидел он в вечерней заре,—
И свет от него исходил лучезарно,
Как свет от Сумеру-горы,—
На ложе, блестящем от ценных камений,
И в дымах сандала кругом.
Вокруг же танцовщицы с музыкой были,
И редкостный длился напев,
Но мысли царевича гнали напевность,
Он звуков умом не хотел,
И страстные звуки чертог наполняли,
Но он не слыхал их совсем.
Узнав, что царевича время приспело,
Тут Дэва из Чистых высот
Во образе внешнем спустился на Землю,
Чтоб женские чары убить.
И полуодетые призраки эти,
Забывшись в сковавшем их сне,
Являли глазам некрасивые формы,
Их скорчены были тела.
Разбросаны лютни, разметаны члены,
Спина прилепилась к спине;
Другие как будто потопшими были,
А их ожерелья — как цепь;
Одежды их были увиты, как саван,
Или выявлялись комком;
Красивыми были и вот уж увяли,
Как сломанный маковый цвет;
Иные во сне до стены прижимались,
Как будто повешенный лук;
Иные руками цеплялись за окна,
Смотря как раскинутый труп;
Иные свой рот широко раскрывали,
Противно сочилась слюна,
и волосы были всклокочены дико,
Безумия жалостный лик;
Цветочная перевязь порвана, смята,
Растоптанный в прахе лохмоть;
И в страхе иные приподняли лица,
Как в пустоши птица одна,
Царевич сидел, в красоте лучезарной,
И молча на женщин смотрел,
Как юны сейчас они были и нежны,
Как искрист веселый был смех!
Как были прекрасны! И как изменились!
И как неприятен их вид!
Вот женщины нрав. Лишь обманчивый призрак.
Заводят мужские умы.
И молвил себе: «Я проснулся для правды,
Оставлю я тех, в ком обман».
А Дэва из Чистых высот, снизошедши,
Приблизился, дверь отомкнул.
Царевич встал с места и между простертых
Поверженных женщин прошел,
Дойдя с затрудненьем до внутренних горниц,
Возницу он, Чандаку, звал.
«Душа моя жаждет, испить она хочет
От влаги нежнейшей росы.
Седлай же коня мне. Скорее. Желаю
Я в город бессмертный войти.
Я жажду. Решился. И связан я клятвой.
Нет чар в этих женщинах мне.
Врата, что замкнутыми были, разъяты.
В судьбе моей здесь поворот».
И Чандака думал, что, должен ли слушать
Веленье царевича он,
Царю не сказавши об этом и этим
Снискав наказанье себе.
Но Дэвы послали духовную силу,
И конь, уж оседлан, стоял,
Скакун превосходный и в сбруе блестящей,
Готовым он в путь выступал.
С высокою гривой, с хвостом словно волны,
С широкой и сильной спиной,
С значительным лбом, с головой как бы птичьей,
С ноздрями как будто клешни,
С дыханьем как будто дыханье дракона,
Во всем благороден он был.
И царственный всадник, трепля его шею
И тела касаясь, сказал:
«Отец мой и царь мой с тобой был повсюду,
И в битве бесстрашным ты был,—
Теперь на тебя я хочу положиться,
С тобою достигнуть туда,
Где жизнь бесконечная током струится,
И биться с оплотом врагов,
С людьми, что в погоню идут за усладой
И ищут богатства себе.
Иду я искать исцеленья от пытки,
И это во имя того,
Во имя свободы твоей и всеобщей,
Да будет достойным твой бег».
Так молвив, вскочил на коня и поехал,
И был он как Солнце зари,
И конь был как облачный столп устремленный,
Бежал, но, бежа, не храпел.
С ним были четыре незримые духа,
И каждый ногам помогал,
Скрывая копыт повторительный топот,
Бесшумным соделавши скок.
Был духами чтим и отец безгреховный,
И сын несравненный его,
Все члены семьи были в равенстве чтимы,
От Дэв благотворным — привет!
Сдержав свои чувства, но память лелея,
Из города выехал он,
Такой незапятнанный, светлый и чистый,
Как лилия, бросив свой ил.
Свой взор на отцовский дворец приподнявши,
Свой замысел он возвестил,
И в записях мира тех слов не хранится,
Но эти слова не прейдут:
«Когда б не избег я рожденья и смерти
Навеки,— я так бы не шел!»
И духи в пространстве, и Дэвы в высотах
Воскликнули: «Так! Это так!»
И духи в пространстве, и Дэвы в высотах,
Светло совершенства храня,
Сиянье свое излучали обильно,
И свет был на длинном пути.
Так всадник и конь, оба сильные сердцем,
Как звезды, пошли и ушли,
Но прежде чем свет воссиял на Востоке,
Уж были они далеко.
И ночь прешла в одно мгновенье,
Вернулось зренье ко всему,
Царевич посмотрел и в чаще
Обитель Риши увидал.
Ключи журчали и звенели
Необычайной чистоты,
И, увидав, что человека
Здесь не боится зверь лесной,
Возликовал царевич сердцем,
Усталый конь свершил свой бег
И воздохнул, остановившись,
И он подумал: «Добрый знак.
Знать, воля свыше одобряет
И указует это мне».
Сосуд для сбора подаяний
Он в доме Риши увидал.
Увидел и другие вещи,
В порядке полном были все.
Сойдя с коня, его ласкал он
И вскликнул: «Вот, привез меня!»
И взором глаз любовно-тихих,
Как нетревожимый затон,
Взглянув на Чандаку, он молвил:
«О быстроногий! Ты — как конь,
Как легкокрылая ты птица,
Повсюду следовал за мной,
Пока я ехал,— и сердечно
Благодарить тебя хочу.
Тебя как верного лишь знал я,
Теперь как сильный ты предстал,
А может человек быть верным
И силы в теле не иметь.
А ты теперь и честность сердца,
И тело сильное явил,
И, быстроногий, ты за мною,
Не ждя награды, поспешал.
Тебя держать не буду больше,
Хоть можно много слов сказать,
Соотношенье завершилось,
Возьми коня и поезжай.
Что до меня, я в долгой ночи
Неисчислимых перемен
Искал найти вот это место
И наконец его нашел».
Сняв с шеи цепь, златое чудо,
Ее он Чандаке вручил.
«Она твоя,— сказал,— возьми же,
И да утешит скорбь твою».
Взяв из тиары ценный камень,
Что как звезда на нем сиял,
В его протянутую руку
Он это солнце положил.
Сказал: «О Чандака, возьмешь ты
Вот этот камень-самоцвет,
И от меня отцу свезешь ты,
Как знак сердечнейшей любви.
Пред ним почтительно положишь
И от меня моли царя,
Чтобы привязанности чувство
В своем он сердце подавил.
Скажи ему, чтобы избегнуть
Треликой горестной беды —
Рожденья, старости и смерти,—
В лес истязаний я вступил,
Не для небесного рожденья,
Не оттого, что сердцем сух,
Не оттого, что в сердце горечь,
Но чтоб стряхнуть тот гнет скорбей.
Нагроможденья долгой ночи,
Желанья жаждущей любви,
Желаю эту свергнуть тяжесть
И опрокинуть навсегда.
К конечному освобожденью
Я так отыскиваю путь,—
Освобожусь, и уж не нужно
Мне будет больше порывать
Семейной связи, и не нужно
Мне будет покидать мой дом.
О, больше не скорби о сыне!
Он в этом выбрал верный путь.
Пять возжеланий скорбь рождают,
Чрез страсть они приводят скорбь.
От предков, от царей победных,
Я получил блестящий трон,
Но, лишь блюдя благоговейность,
Я отказался от него.
Ты говоришь, я слишком молод
И мудрости искать — не час;
Ты должен знать, что верной веры
Искать — всегда удобный час.
Непостоянство, и превратность,
И смерть — всегда нас стерегут;
И потому я обнимаю
Текущий настоящий день
И знаю, час вполне подходит,
Чтоб веру верную искать.
Но пусть отец, томясь, не рвется
За мною в помыслах своих
И пусть не помнит призрак сына
И ту привязанность порвет.
А ты, прошу я, не печалься
О том, что так я говорю,
Но сохрани заветный камень
И весть мою царю снеси».
С почтеньем слову увещанья
Смущенный Чандака внимал,
И, простирая руки, молвил,
И так царевичу сказал:
«Те повеленья, что даешь мне,
Боюсь, прибавят к скорби скорбь,
Что в сердце глубже погрузится,
Как слон, что бьется меж трясин.
Когда порвут внезапно-грубо
Привязу нежную любви,
Как может тот, в ком бьется сердце,