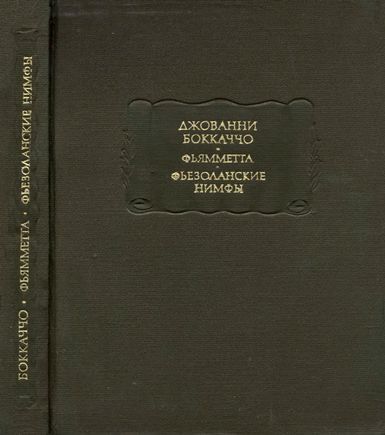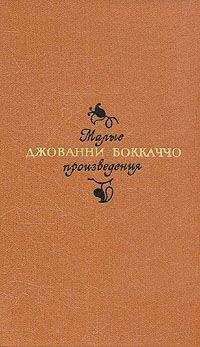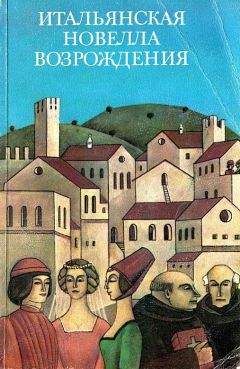самой нравится дурь, что на тебя нашла, и тебе угодно упорствовать, делай как хочешь: тут уж мои советы не помогут. Но так как этот жестокий тиран, которому так просто ты подчинилась, не остерегшись по молодости лет, с свободой вместе отнимает и рассудок, хочу тебе напомнить и просить: вырви из чистой груди постыдные мысли, угаси пламень бесчестный, не рабствуй мерзостной надежде; теперь время бороться: кто противостал в начале, тот прогоняет преступную любовь и, побеждая, остается целым; но кто питал ее долгими и льстивыми мыслями, тому поздно свергать иго, которое добровольно наложил на себя» [19].
«Увы, — сказала я тогда, — насколько легче это говорить, чем делать!»
«Хоть и не очень легко это сделать, — ответила она, — однако можно и следует. Ну что ж, ты хочешь из-за одного дня потерять и забыть знатность твоей родни, славу о твоей добродетели, красу цветущую, честь и, главное, своего мужа, столь любящего и любимого тобою? Конечно, ты не должна этого хотеть и, я уверена, что здраво поразмыслив, ты не захочешь этого. Ради бога, удержись и отгони обманчивые радости, что обещав! тебе нечистая надежда и с ними страсть. Умильно я тебя прошу, заклиная этою старою, иссохшею грудью, которою ты первая питалась, — спаси сама себя и честь свою и не отвергай моей помощи; ведь тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает».
Тогда я начала:
«Дорогая кормилица, я знаю хорошо, что говоришь ты правду, но страсть меня влечет в другую сторону [20], моя душа и чрезмерные желания с нею заодно; напрасно ты свои советы тратишь, рассудок мой побеждается страстью, во мне царит и владеет мною любовь и бог любви, а ты знаешь, никто не в силах противиться его могуществу».
И так сказав, словно сраженная, упала ей в объятья. Но она, сперва слегка смутившись, опять начала более строгим голосом:
«Вы, толпа прелестной молодежи, распаленная пламенным желаньем и движимая им, вы сочли за божество любовь, которую вернее было бы назвать страстью. Называя это божество Венериным сыном и рассказывая, что оно получило свое могущество от третьего неба [21], вы ищете свое безумье оправдать неизбежностью. О, вы лжете и совершенно лишены познанья! Что говорите? Тот, кто побуждаемый адскою яростью, внезапным летом всю землю обтекает, — не божество, а скорее безумье тех, кто его принимает, хотя он посещает только тех, чьи души знает пустыми от излишка и светского довольства [22] и склонными ему дать место, — это достаточно очевидно. И правда, разве мы не видим, что святейшая Венера { 7 } часто под скромной кровлей обитает, довольная лишь пользой необходимого нашего размножения [23]? Конечно, так. Но страсть, что зовется любовью, всегда стремясь к разнузданности, пристает лишь к богатству. Там она владеет жалкими душами, внушая отвращенье к пище и одежде, необходимым лишь для жизни, и побуждая к блеску и изысканности, куда она и примешивает свой яд; охотней посещает высокие дворцы, чем хижины, куда заходит редко или никогда; итак это — зараза лишь изысканных мест, всего более подходящих для ее несправедливых действий. В простолюдинах мы наблюдаем здоровые чувства, но богачи, окруженные блеском богатства (к которому они ненасытимы как и ко всему), всегда ищут большего, чем надлежит, кто имеет большую власть, стремится достигнуть той, которой еще не имеет [24]; и я чувствую, что ты, несчастная девушка, одна из них и от избытка благополучия влечешься к новым заботам и новому позору».
Выслушав ее, я сказала:
«Молчи, старая, и не спорь с богами. Теперь, бессильная к любви и справедливо всеми пренебрегавшая, ты поневоле порицаешь то, что прежде хвалила. Если другие женщины более знаменитые, мудрые, могущественные, чем я, звали его богом, я не могу дать ему другого имени; и я подчинена тому, что может быть причиной либо моего счастья, либо горя; сил моих больше не стало: побежденные в борьбе с ним, они меня покинули. Один конец моим страданьям: или смерть или желанный юноша; коль ты мудра, как я тебя считаю, ты бы мне оказала помощь и совет (хотя бы отчасти, прошу тебя), или ты увеличишь мои муки, пороча то, к чему теперь единственно могут стремиться все силы души моей».
Тогда кормилица в гневе (вполне понятном), не отвечая, а бормоча что-то себе под нос, вышла из комнаты, оставив меня одну.
Уже ушла милая мамушка, умолкли советы, которые я так плохо опровергала; оставшись одна, я все думала о ее словах, которые оказали действие на мой ослепленный рассудок, заколебались только что высказываемые мною намеренья, мелькала мысль, не бросить ли столь справедливо осуждаемые замыслы, хотела я вернуть кормилицу себе на помощь, — как вдруг новый случай остановил меня. В тайную мою комнату не знаю как войдя, моим глазам предстала прекраснейшая жена, окруженная таким сияньем, что его едва выдерживало зренье. Она стояла еще молча передо мною, и по мере того как я напрягала свое зрение и до моего сознания достигало прекрасное виденье, я узрела ее нагою, потому что хотя тончайшее пурпуровое покрывало и обвивало отчасти ее белоснежное тело, но от взоров скрывало его не более, чем прозрачное стекло скрывает человека за ним стоящего; на голове ее (а кудри настолько блеском золото превосходили, насколько это последнее превосходит наши золотистые волосы), на голове ее была гирлянда из мирт, которая оттеняла несравнимой красоты сияющие глаза, чудесные для созерцания, и все в лице ее было исполнено прелести, которой равной не найти. Она ничего не говорила не то довольная, что я любуюсь ею, не то сама любуясь моим созерцанием; но понемногу через блистающее сиянье открыла мне свою красу, чтобы я узнала, что нет возможности не видя представить или описать такое совершенство. Когда она поняла, что я насытилась лицезреньем, и увидела мое удивленье ее приходу и красоте, с веселым ликом и голосом нежнейшим, чем голос смертных, так начала мне говорить:
«О дева ветреннейшая из всех, что замышляешь делать, вняв советам кормилицы? Не знаешь разве, что следовать им гораздо труднее, чем любви, которой ты бежать желаешь? Ты не гадаешь, сколько и какого они тебе готовят горя? Ты, глупая, едва вступивши к нам, уж хочешь быть не нашей, как тот, кто не знает, какие и сколько у нас наслаждений. О неразумная, остановись и зри, довольно ли тебе того, чего хватает небу и земле. Над всем, что видит Феб {