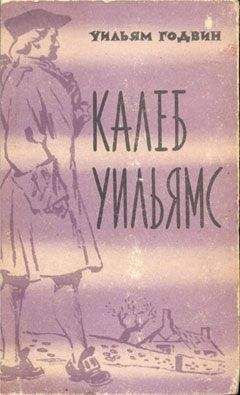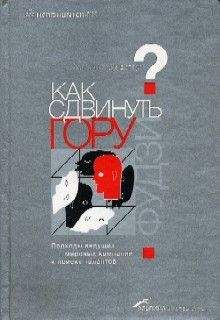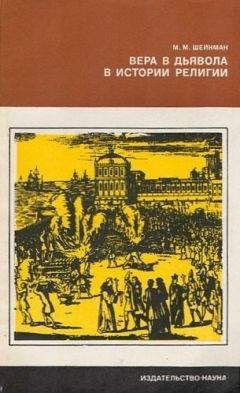Вставал и другой вопрос. Могу ли я принять деньги, которые только что были вложены мне в руку? Деньги человека, который причинил мне зло, – правда, меньшее, чем то, которое он причинил самому себе, но превосходящее все, что может сделать дурного один человек другому? Который омрачил мою юность, погубил мой покой, выставил меня на позор перед человечеством и сделал отщепенцем на лице земли? Который измышлял самую гнусную, жестокую клевету и внушал ее другим с серьезностью и настойчивостью, вселявшими во всех полное доверие? Который час тому назад твердил мне о своей неумолимой вражде и клялся, что нашлет на меня несчастья, каким не будет конца? Не обнаружит ли такое поведение с моей стороны низость и подлость духа человека, пресмыкающегося перед тиранией и целующего руки, обагренные его собственной кровью?
Если эти доводы казались основательными, то и в возражениях не было недостатка. Я нуждался в деньгах – не для распутства и излишеств, а ради потребностей, без удовлетворения которых не может длиться жизнь. Человек, где бы он ни находился, должен иметь возможность добывать себе средства к существованию. А мне приходилось начинать новую полосу жизни, отправиться в какое-нибудь отдаленное место и быть готовым к человеческому недоброжелательству и неведомым враждебным замыслам в высшей степени изощренного врага.
Необходимые средства для существования – достояние всех. Что же может мне помешать взять то, в чем я действительно нуждаюсь, если, беря это, я не навлекаю на себя ничьей мести и никому не причиняю насилия? Собственность, о которой идет речь, должна пойти мне на пользу, а для ее прежнего владельца добровольная уступка ее не сопряжена ни с каким ущербом. Какие еще нужны условия, чтобы вменить мне в обязанность воспользоваться ею? Тот, кто раньше владел ею, причинил мне зло. Но разве это меняет ценность денег как средства обмена? Возможно, что он будет хвалиться воображаемым одолжением, которое оказал мне. Но, право, отказываться от поступка, который сам по себе правилен, из-за опасений такого рода можно только по малодушию или из трусости.
Эти рассуждения заставили меня оставить себе то, что было вложено мне в руку. Потом я должен был подумать о месте, которое мне надо было выбрать для жизни, только что вырванной из рук палача. Опасность того, что все мои занятия будут постоянно прерываться, теперь, можно было думать, немного уменьшилась. Испытываемое мной беспредельное отвращение к тому положению, в котором я находился последнее время, сильно поддерживало эти соображения. Я не знал, каким образом мистер Фокленд намеревался мстить мне, но я был проникнут таким непреодолимым омерзением к переодеванию и к мысли прожить всю свою жизнь, изображая вымышленное лицо, что не мог, по крайней мере в то время, согласиться на что-либо подобное. Такое же отвращение испытывал я к столице, где провел столько часов, скрываясь в печали и страхе. Поэтому я остановился на решении, которое и прежде тешило мое воображение, – заключавшемся в том, чтобы удалиться на покой в безвестность, поселившись в какой-нибудь дальней сельской местности, где я, по крайней мере несколько лет – может быть, до тех пор, пока будет жив мистер Фокленд, – мог бы скрываться от мира, залечивая там душевные раны, приводя в порядок и совершенствуя накопленные знания, развивая свои способности, каковы бы они ни были, а промежутки между этими занятиями употребляя на простой труд и общение с простодушными, необразованными, благомыслящими людьми. Угрозы моего гонителя как будто предвещали неизбежное нарушение этого образа жизни. Но я счел более мудрым не принимать во внимание этих угроз. Я сравнивал их со смертью, которая должна неизбежно постигнуть каждого из нас, но возможный приход которой в будущем году, на будущей неделе, завтра не должен приниматься в расчет тем, кто хочет приступить к какому-нибудь важному и хорошо продуманному предприятию.
Вот мысли, которые определили мой выбор. Так мой юношеский ум заглядывал вперед на многие годы, в то время как угрозы немедленных несчастий еще звучали у меня в ушах. Я так свыкся с ожиданием бед, что глухих раскатов надвигающейся бури было уже недостаточно, чтобы нарушить мой покой. Однако я считал необходимым не ослаблять осторожности, пока находился в сфере действия своего противника, и старался не доверять случайностям темноты и уединения. Покидая город, я ехал в почтовой карете, видя в этом верный способ защиты от наглого и прямого насилия. Но во время переезда меня совсем не беспокоили, словно у меня не было никаких оснований для подобных опасений. С увеличением расстояния я немного ослабил свои предосторожности, хотя не переставал чувствовать ненадежность своего положения и не мог отделаться от преследующего меня образа моего врага. Я выбрал глухой городок в Уэльсе. Он пришелся мне по вкусу, когда я странствовал в поисках местожительства. Городок был чистенький, веселый и очень тихий на вид. Он находился далеко от больших проезжих дорог, и в нем не было ничего, что заслуживало бы наименования торговли. Природа вокруг была приятно разнообразна, местами дикая и романтическая, местами щедрая и плодоносная.
Тут я стал добиваться работы по двум специальностям: во-первых – часовщика, так как хотя знания, которые я получил в этой области, были невелики, они были дополнены и развиты умом, способным к механическим изобретениям; во-вторых – преподавателя математики и ее практического применения в географии, астрономии, землемерном деле и навигации. Ни то, ни другое не могло быть обильным источником дохода в том тихом пристанище, которое я себе избрал; но если заработок мой был скромен, то расходы были еще меньше. В этом маленьком городке я познакомился с викарием, аптекарем, стряпчим и другими, с незапамятных времен считавшимися самыми почтенными людьми местного общества. Каждый из них имел ряд занятий. В наружности викария во все дни, кроме воскресенья, не было ничего, напоминающего его профессию. В будни он снисходил до того, чтобы водить своей пастырской рукой плуг либо гнать коров с поля на ферму для доения. Аптекарь иной раз действовал в качестве цирюльника, а стряпчий был в то же время учителем в сельской школе.
Все эти лица приняли меня любезно и гостеприимно. Среди людей, живущих вдали от сутолоки столичной жизни, царит дух открытой доверчивости, благодаря которому приезжий легко находит доступ к их доброте и благожелательности. Все превратности судьбы не лишили меня сельской простоты в обращении, а перенесенные невзгоды сообщили моему характеру еще большую мягкость. На поприще, которое я теперь избрал, у меня не было соперников; обязанности часовщика и механика до тех пор никем там не выполнялись, а школьный учитель, не притязавший на высочайшие науки, которые я хотел насаждать, охотно согласился допустить меня в качестве соратника в деле просвещения его сограждан. Что же касается пастора – просвещение было не по его части; его дело было заниматься вопросами, связанными с лучшим миром, а не плотскими заботами здешней жизни; откровенно говоря, его мысли были заняты главным образом овсяной мукой и коровами.
Но это были не единственные спутники, которых мне доставило отдаленное пристанище. Там была семья совсем иного склада, в которой я скоро стал желанным гостем. Отец был строгий, умный, рассудительный человек, посвятивший свое внимание преимущественно земледелию. Его жена была поистине восхитительная и необыкновенная женщина. Она была дочерью неаполитанского дворянина, которого удары судьбы привели в конце концов в это селение, после того как он побывал во всех европейских странах и играл там заметную роль.
Он был изгнан из своего отечества по подозрению в религиозном и политическом отступничестве, и его имущество было конфисковано. Подобно Просперо из «Бури»[63], он удалился со своим единственным ребенком в один из наиболее забытых и темных уголков мира. Но вскоре по прибытии в Уэльс он заболел злокачественной лихорадкой, которая унесла его в три дня. Он умер, не оставив никакого имущества, кроме немногих драгоценностей и незначительного аккредитива на имя одного английского банкира.
Так малолетняя Лаура осталась одна в чужой стране. Отец того, кто был теперь ее мужем, побуждаемый человеколюбием, старался облегчить несчастья умирающего итальянца. Хотя он был простым, необразованным человеком, в его обхождении было нечто заставившее чужеземца сделать его своим душеприказчиком и опекуном дочери. Неаполитанец достаточно владел английским языком, чтобы объяснить свое желание этому дружески к нему расположенному свидетелю его смерти. Так как средства его были ограничены, двое его слуг-итальянцев, мужчина и женщина, вскоре после смерти их хозяина были отправлены обратно к себе на родину.
Лауре в то время было восемь лет. В этом нежном возрасте она была еще мало способна воспринимать прямые наставления, а по мере того как она подрастала, самое воспоминание об отце с каждым годом становилось у нее все более смутным и неопределенным. Но было кое-что полученное ею от отца либо вместе с жизнью, которую он ей дал, либо вследствие его наставлений и примера, которых ничто не могло изгладить. Каждый новый год ее жизни способствовал развитию запаса ее дарований. Она читала, наблюдала, размышляла. Без всяких учителей она научилась рисовать, петь и сама изучила культурные европейские языки. Так как в этом уединенном месте у нее не было другого общества, кроме сельских жителей, у нее не было также представления о достоинстве и превосходстве, проистекающих из ее познаний; она приобретала их по внутренней склонности, находя в этом источник личной радости.