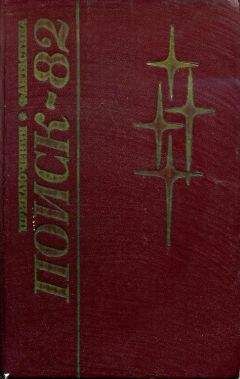Воинские («трудные»[133]) повести упоминаются и в «Слове о полку Игореве»[134], где особое внимание уделяется противопоставлению «старых словес» и «былин сего времени». «Старые словеса», к которым можно отнести песни и речи Бояна, безусловно относятся к устной традиции[135]. Само же «Слово о полку Игореве» названо «повестью», близкой «былинам сего времени». Возможно допущение, что однозначно не истолкованное выражение «былины сего времени»[136] означает «летописные повести». Если так, то в «Слове» также противопоставлены письменная и устная фиксация исторической памяти
Характерное свидетельство о переработке устной традиции при ее письменной фиксации дает «Память и похвала князю Владимиру» Иакова Мниха: «Тако же и азъ, худый мнихъ Иаковъ слышавъ от многыхъ о благовернемъ князе Володимире всея Руския земля о сыну Святославле и мало собравъ от многыя добродетели его написахъ»[137]
Добавлю, что «семантическая оппозиция» «речи — писати» выделяется и в текстах договоров руси и греков, и в первых погодных статьях летописи. Это источники, отражающие самые ранние контакты славяно-русской языческой среды, ориентированной на устное слово, и письменной культуры византийцев. В результате в договорах контаминируются в одной формуле термины «глаголати» и «писати» — «велеша глаголати и писати»[138]
Оппозиция письменной и устной истории, в древнерусской литературе, таким образом, может считаться одним из топосов, не самым распространённым, но важным для древнерусских книжников
В ранней западнославянской историографии подобных значимых текстов выявить не удалось. Видимо, это связано с принципиальным языковым, а значит и культурным разрывом между письменностью (латинской) и живой речью (славянской)
Признаки использования первыми историографами устных преданий можно классифицировать следующим образом:
1. Указания на рассказы конкретных информантов и анонимные ссылки на устные источники. Если круг профессиональных авторов письменных текстов в средневековых обществах оставался ограниченным и замкнутым, то круг носителей устной традиции был гораздо шире. Кроме сказителей информаторами летописцев и хронистов могли выступать любые представители средневекового социума[139]
В древнерусских источниках присутствует небольшая группа известий, связанных с конкретными субъектами — носителями исторической информации. Можно выделить две формы указания на источники — точные указания на информанта и абстрактные отсылки к коллективной исторической памяти
Хрестоматийный пример первого случая — Ян Вышатич, от которого летописец, как он сам сообщает, «слышахъ многа словеса, яже вписахъ в летописецъ». Наряду с Яном Вышатичем, достигшим девяностолетнего возраста, в ПВЛ упоминается монах Киево-Печерского монастыря старец Еремия, который в 60-70-е гг. XI в. «помняше крещение земле Руськыя»[140]. Характерно, что знания о прошлом у этого старца сочетались с возможностью провидеть будущее: «Сему бе даръ дарованъ от Бога проповедаше предибудущая и аще кого видяше в помышленьи обличаше и втайне и наказаше блюстися от дьявола. Аще который братъ умышляше ити из монастыря и узряше и пришедъ к нему обличаше мысль его и утешаше братию аще кому что речаше ли добро ли зло сбудяшется старче слово»[141]
Субъектные ссылки появляются примерно с середины XI в., когда в летописи фиксируются имена конкретных и потенциальных информаторов — представителей близкого ко двору монашества, дружины, княжеской семьи (Феодосий Печерский, сын высокопоставленного дружинника, боярин Иоанн, князь Святоша — Святослав Давыдович[142]). Подтверждением правдивости их рассказов служат возраст, авторитет и праведность («старець добрый живъ лет 90 в старости мастите живъ по закону Божью не хужий бе первых праведник»[143])
Иногда летописец находит подтверждение полученной устной информации в своих письменных источниках. Наиболее характерный случай такого рода — рассказ Гюряты Роговича: «Се же хощю сказати яже слышах преже сих 4 лет яже сказа ми Гюрятя Роговичь новгородець глаголя сице...»[144]. Отметим, что сам Гюрята ссылается на рассказ своего отрока, вернувшегося из похода, а летописец цитирует по этому поводу «подтверждающее» сообщение «Откровения» Мефодия Патарского
В другом случае автор ПВЛ цитирует рассказ «ладожан» (жителей Ладоги): «поведаша ми ладожане»[145]; в качестве «послухов», свидетелей, назван посадник Ладош Павел и «вси ладожани»[146]. Летописец заключает свою аргументацию советом: тот, кто «сему веры не иметь, да почтет фронографа»[147]
Один раз летописец апеллирует к своему личному знанию, информации, полученной без посредников: «...аз грешный первое самовидець, еже скажу не слухомъ бо слышавъ, но само семь началникъ»[148]
Однако в целом в тексте ПВЛ доминирует бессубъектная форма ссылок на устную традицию. Здесь присутствуют абстрактно-безличные отсылки к «общей» для Руси исторической устной памяти: «якоже ркоша» (перед сказанием об Андрее Первозванном); «инии же не ведуще ркоша» (легенда о Кие-перевозчике); «яко же сказують» (легенда о посещении Кием Царьграда); «есть притча в Руси и до сего дне» (легенда об обрах и дулебах); «еже ся ныне зоветь Угорьское» (легенда об убийстве Аскольда и Дира); «иже глаголется Щековица», «словет могила Олгова» (смерть Олега Вещего); «и есть притча и до сего дне» (убийство Ярополка Святославича в Родне). Аналогичное обобщенное обозначение «молвы» фигурирует в Лаврентьевской летописи, перед изложением легенды о вражде внуков Ярослава и Всеслава — «яко ск(а)заша ведущии пре(ж)»[149]
Из общего ряда выделяются только сообщения с конкретными указаниями на «иных», «ведающих», «ладожан», «вернувшихся из похода дружинников»[150], т.е на определенную группу людей, распространяющих предание или его версию, а также два упоминания определенного жанра — «притчи»[151], т.е. пословицы
Можно в целом реконструировать представления летописца об «иерархии достоверности» информационных сообщений: «молва о прошлом, рассказы», «рассказы группы людей», «рассказы авторитетных и праведных людей о прошлом», рассказы очевидцев, письменные свидетельства священных и исторических текстов
Время Владимира Святославича можно назвать переходным периодом, для которого характерны последнее сообщение ПВЛ о молве и упоминание первого конкретного информатора[152]. Примечательно, что уникальная вставка в текст Лаврентьевской летописи под 1128 г., основанная на устной традиции, относится как раз к времени Владимира: в ней идет речь о причинах вражды княжеских кланов Ярославичей и Всеславичей
В чешской традиции также можно выявить чёткие указания на обращение к устной информации. В повествовании о древнейшней истории чешского народа и государства Козьма Пражский прямо называет свои устные источники — «рассказы и предания старцев»[153]. Здесь, как и в древнерусских литературных текстах, подчёркнут прежде всего возраст информаторов. Отметим, что термин «старец» в Средневековье обозначал не только биологический возраст, но и социальный статус[154], одной из ключевых функций которого во всех обществах является передача исторической и общественно-полезной информации
Датировки событий в Хронике Козьмы начинаются с правления князя Бордживоя, т.е. со времени принятия христианства. Говоря о более ранних событиях, Козьма прямо указывает на отсутствие данных «хроник и книг»[155], что автоматически предполагает его обращение исключительно к устной традиции
Косвенным признаком наличия информаторов у летописцев и хронистов_может служить концентрация в тексте данных, посвященных определенным (часто второстепенным) персонажам. В ПВЛ Д.С. Лихачёвым выделены фрагменты текста, где уделяется особое внимание воеводе Добрыне. Д.С. Лихачёв также обозначил примерный круг известий, которые мог поведать автору ПВЛ Ян Вышатич[156]. А.А. Шахматов, Б.А. Рыбаков и А. Поппэ выделили комплекс известий, где подчеркнута исключительная роль воеводы Свенельда и его сына Мстислава[157]
В Хронике Козьмы Пражского под 968 г. специально отмечена смерть дружинника Вока (Волка?). Можно выделить отдельную «повесть» о подвигах дружинника Тыра[158]. Аналогичное происхождение из родового предания аристократического рода, вероятно, имеет переданная Галлом Анонимом легенда о получении комитом Желиславом от князя золотой руки вместо отрубленной[159]. Вероятнее всего, эти известия связаны с семейными преданиями информаторов первых историков. Этот признак остается достаточно спорным и может использоваться только в качестве дополнительного при условии, что в тексте фиксируются другие ссылки на устные источники, а второстепенные персонажи не принадлежат к княжеским родам, вокруг которых стоятся основные повествовательные ряды летописей и хроник