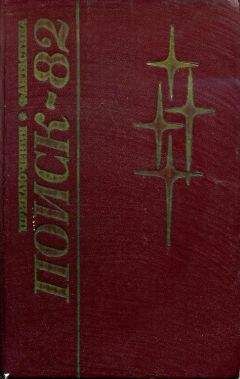К этому же типу (паремии) можно отнести и загадки. Сюжет мести княгини Ольги древлянам разворачивается как история загадывания и отгадывания загадки на понимание скрытого смысла ритуала и неспособности оппонентов мудрой княгини постичь скрытый смысл метафор ее речи. В летописи Ольга ведет сложную языковую и символическую игру, воспроизводя свадебную и похоронную обрядность, сочетая драматический и комический эффекты[190]. Подобную же загадку представляет собой предсказание будущего князя Олега, сделанное волхвом; аналогичную загадку на понимание метафоры и проверку возможности предвидеть будущее задает Либуше чехам, требовавшим себе князя-мужчину[191]
Можно отметить, что этот признак служит наиболее надежным сигналом фольклорности источника летописного известия — фольклорное происхождение соответствующих летописных статей признается большинством исследователей
4. Славянские лексемы в латиноязычных текстах. Древнерусские летописи и устная традиция относились к одной «языковой среде», лингвистические различия письменной и устной «протолитературы» имели стилистический характер. Западнославянские же хроники принадлежали к латинской языковой среде и культуре письма. Славянская устная традиция не только перерабатывалась при записи, но и переводилась на другой язык. Процедура перевода создавала сложный культурный «фильтр». Именно поэтому, несмотря на то, что в латинских текстах содержится меньшее количество «рудиментов» оригинального языка и системы образов устной традиции, они выделяются более отчётливо
По собственному сообщению, автор польской Хроники Галл Аноним — «изгнанник и пришелец», для него польский язык является чужим. В Хронике прямо не говорится о наличии информаторов-славян, которые могли быть носителями устной традиции, повествующей о древнейшей истории польского государства. Однако в тексте Хроники зафиксированы славянские слова. В начальной части приведена славянская этимология названия столицы польского государства — «Gneznensi», что, согласно разъяснению Галла Анонима, по-славянски означает «гнездо»[192]. Далее в повествовании упоминается славянское обозначение мисок — «cebri», множественное число от славянского «цебер» — кувшин, миска, лохань, мера сыпучих тел[193]. Слово восходит к праславянскому лексическому фонду, сохранилось в польском языке и отдельных диалектах русского языка
Характерно, что оба славянских слова приводятся Галлом Анонимом при пересказе предания о передаче власти от князя Попеля к князю Шясту, т.е. в начальной части Хроники, где сконцентрированы фольклорные мотивы. В «исторической» части текста славянские лексемы не зафиксированы
В латинском тексте Козьмы Пражского, как и у Галла Анонима, приводятся славянские этимологии топонимов — объяснение названия города Храстен: «от слова чаша»[194]. Видимо, славянское название города звучало как «Частей» или «Чашин». Кроме того, дано разъяснение имен князей Пржемысла — «наперед обдумывающего», и Страхкваса — «страшного пира»[195]
Славянские слова в латинских текстах выступают надежным признаком перевода устного рассказа со славянского языка на латынь, поскольку их включение в латинские тексты обусловлено объективной потребностью разъяснения этимологии семантически значимых имен и трудностью передачи отдельных терминов. При этом приведенные этимологии слов свидетельствуют о наличии «консультанта» — носителя языка — и соответствующей славянской устной традиции, так как невозможно предположить, что в гипотетическом славянском письменном тексте, который мог быть источником для Галла, имелись специальные этимологические экскурсы
5. Мифологические имена, топонимы, артефакты. Еще одним элементом, связывающим тексты летописей и хроник с устной традицией, являются упоминания мифогенных имен, сакральных и исторических топонимов, а также названия (и имена) значимых артефактов
Изучению мифологической семантики и этимологии имен первых князей и героев в основном посвящены лингвистические исследования. Выявлены славянские и иноязычные корни и мифопоэтический смысл имен Кия, Лыбеди, Хорива, Щека, Пяста, Попеля, Крока, Любуше, Кази, Тэтки, Пржемысла
Вторую группу составляют знаковые вещи (артефакты). Сообщения о знаковых артефактах, как языческих, так и христианских, ещё более тесно связаны с фольклором[196]. Этнографические и сравнительные данные позволяют определить семиотику и связь с ритуалом таких предметов как сани, ладья (лодка)[197], ковер, оружие, орудия труда и т.д. К этому же набору можно отнести «порты первых (древних) князей» (одежды)[198] и «лапти Пржемысла»[199], вывешенные позже в христианских храмах; следы от ударов мечами Болеслава I и Болеслава II на Золотых воротах Киева[200]
Третью группу составляют известия о памятных местах (топонимах). Летописцам и хронистам были известны многочисленные географические маркеры, связанные с древней историей славянских племён — названия рек, гор, урочищ и связанных с этими местностями городов (Щековица, Хоривища, Лыбедь, Киев, Гнезно, Тэтин, Либушин, Девин), места, где стояли языческие кумиры (русский летописец особо отметил отмель («рень»), на которой застрял идол Перуна, свергнутый в Днепр после крещения киевлян), пограничные знаки. Подробное исследование «сакральной топографии», «ментальной картины» раннефеодальных славянских княжеств — отдельная и до сих пор подробно не исследованная с исторической точки зрения тема[201]
Наиболее наглядным примером может служить комплекс летописных известий, который составляют упоминания о «могилах» первых русских князей языческого периода. Летописец конца XI в. полагал, что ему известны места захоронений бывших «мужей» Рюрика — Аскольда и Дира[202], и могила их убийцы — киевского князя Олега[203]. При этом разные летописи знают целых три места последнего пристанища Олега Вещего — одно в Ладоге[204] и два в Киеве[205]. Курган над останками следующего князя Руси, Игоря, был насыпан рядом с местом его гибели в земле племени древлян[206]. Последним языческим князем, чья могила находилась в поле зрения составителей первых летописей, был Олег Святославич[207]. Точность народной памяти позволила в 1044 г., более полувека спустя (т.е. примерно через поколение), эксгумировать ради крещения кости братьев Владимира Святого — Олега и Ярополка, погибших соответственно в 977 и 980 г. Могильный же холм над местом первоначального погребения Олега Святославича сохранялся, по-видимому, и после перезахоронения его останков (коль скоро, согласно ПВЛ, «есть его могила и до сего дня»)[208]. Отмечу, что известие о смерти и погребении князей древнейшего периода составляет обязательный, типичный мотив (структурный элемент) их жизнеописаний[209]. Летописание XII в. продолжает отмечать могилы-курганы князей. Так, несколько раз на страницах летописи появляются Олегова могила (могилы)[210] и «могила Черна» (черниговского князя X в.)[211]
На примерах описанной в летописи топографии погребений видно, что сообщения о топонимах представляют собой комбинацию некоего исторического зерна (например, это верная передача деталей скандинавского погребального обряда при описании погребений князей-Рюриковичей[212], знание реально существующей географической номенклатуры) с фольклорной мифопоэтической традицией (этиологические сказания). В историографии существует гипотеза о существовании так называемых «книжных топонимических сказаний», которые были сконструированы летописцами на основании известных им географических названий. Между тем названия географических объектов, как и имена героев и вещей, почерпнуты из развернутой устной традиции, сюжеты которой летописцы сокращали и редактировали, а не сочиняли заново. Во-первых, конструирование языческого предания монахом-летописцем крайне маловероятно; во-вторых, большинство топонимов или антропонимов помещено в контекст уникальных мотивов, деталей или сообщений, аутентичность которых имеет независимые подтверждения. Имена и названия в летописи включены в цельный ряд мотивов, составляющих единые сюжеты
Концентрация знаковых для языческой традиции имен и названий в тексте летописи или хроники почти всегда может служить дополнительным признаком использования устных источников
6. Речи и диалоги. Более дискуссионной является мысль об устных источниках речей, диалогов, переговоров, юридических споров, приведенных в летописях и хрониках. Одни ученые настаивают на их фольклорном происхождении и воспроизведении устной традиции близко к «тексту», тогда как другие подчеркивают факт литературной обработки и даже книжной реконструкции этих «речей». Скорее всего, летописец производил книжную реконструкцию «речи», опираясь как на устные источники, так и на свои представления и образцы. Наличие «речей» и устойчивых формул не может быть непосредственным свидетельством и доказательством использования фольклорных источников, но отдельные черты речи в диалоге (состязательный характер)[213], наличие пословиц и формул устного права в определенных случаях указывают на обращение летописца к устному источнику. Подробно такие ситуации исследованы Д.С. Лихачёвым[214]. Он выделил определенные типы речевого поведения — воинские речи, речи вечевых собраний и княжеских съездов, посольские речи. Несмотря на неизбежную обработку в ходе летописной записи, они сохраняют основные черты живых языковых практик и отчасти связь с фольклором