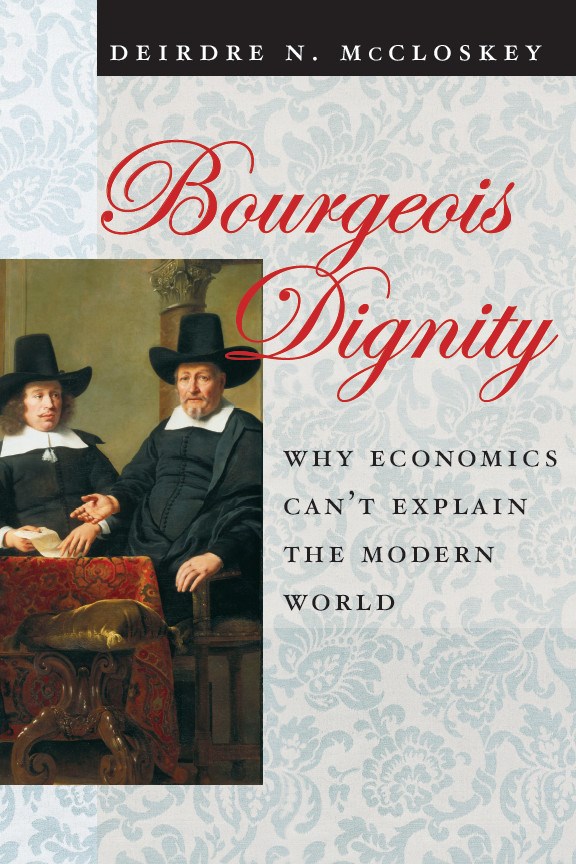том, что некоторые страны могут иметь социальное обеспечение на очень щедром уровне ("щедром" на чужие деньги, добавил бы ворчливый либертарианец), не становясь при этом коммунистическими диктатурами. (Другие, например Венесуэла, пытаются сразу перейти к коммунистической диктатуре).
Опасность всеразрушающего государства в любом случае сегодня так же велика как справа, так и слева. В нападках на президента Обаму как на "социалиста" не упоминается, что администрация Буша расширила правительство в военной форме примерно в той же степени, что и администрация Обамы в невоенной форме. Западноевропейская социал-демократия, безусловно, является демократической, во всяком случае, в отличие от таких примеров, как Германская "Демократическая" республика, и устранил то, что в 1939 году было очень живой альтернативой фашизму (если не считать недавних антииммигрантских движений).
Нам необходимо усилить риторику инноваций. Это не значит, что прославлять "жадность - это хорошо", что, как я подробно доказывал в "Буржуазных виртуалах", является детской и неэтичной риторикой, как бы ни была она популярна на Уолл-стрит и на факультете экономики. Здесь я полностью согласен с моими друзьями-марксистами. Дэвид Харви использует определение неолиберализма, данное Полом Трейнором: он "ценит рыночный обмен как "этику саму по себе, способную служить руководством для всех человеческих действий". "Это только благоразумие. Я говорю, что это шпинат, и говорю, что к черту его. Усиление риторики инноваций означает признание всех достоинств нашего коммерческого общества, а также трезвое взвешивание его пороков, таких как опасное увлечение "только благоразумием". Это значит, что нужно приветствовать перспективные инновации и уважать маркет-плейсы, если они организованы по справедливости. Это не значит поддерживать крупные банки против мелких или делать американское производство "конкурентоспособным", выбирая победителей для получения государственных субсидий. Это означает согласие с созидательным разрушением. Разумеется, мы не должны поклоняться буржуазным добродетелям. Это было бы, по авраамическим понятиям, горделивым идолопоклонством. Но мы не должны и бездумно изгонять их, как Ваала или Мамону. Такая тактика лишь подталкивает бизнесменов к отказу от этики (поскольку она все равно проклята) и возвращению к "Благоразумию", греху алчности.
Политолог Ричард Бойд кратко излагает глубокую версию "противоречий капитализма", о которых беспокоятся такие люди, как Фрэнк Найт, Роберт Патнэм или Фрэнсис Фукуяма: "Сочетание огромного богатства и крайнего неравенства, недобросовестных привычек, разочарования, индивидуализма, унижения вкуса и порожденных капиталом противоречий может сговориться и раз и навсегда подорвать досовременный социальный капитал, от которого зависят либеральные институты". Я так не думаю, по многим причинам, сформулированным здесь и в "Буржуазных добродетелях".
Но есть, по крайней мере, вероятность возникновения фатального остатка идеологической коррупции. Возьмем, к примеру, щекотливый вопрос о вознаграждении руководителей компаний в США. Ричард Нарделли, возможно, не стоил каждого цента из 50 млн. долл. в год, которые он получал за развал Home Depot, или сопоставимой суммы, которую он получал за банкротство Chrysler. С другой стороны, мало найдется экономистов, которых это сильно волнует. Мы, экономисты, давно и правильно отмечаем, что генеральный директор даже в гротескном варианте выплаты составляют ничтожный процент от доходов компаний. И все же в риторическом плане неэкономисты правы. Опасность, по мнению многих, заключается в том, что гротескные зарплаты, эгоистичные прогулки на корпоративных самолетах и отпуска для всей семьи, оплачиваемые поставщиками корпорации, подрывают американскую рето-рику, которая допускает созидательное разрушение. Это важно.
Многое зависит от того, будет ли новое понимание нашего экономического и этического прошлого, которое я здесь отстаиваю, истинным или ложным. Если оно верно, то вывод о том, что этические, риторические, идеологические и конъектурные изменения создали современный мир, будет иметь важное научное значение. Викторианский писатель-путешественник и скептик Александр Кинглейк предлагал, чтобы на входной двери каждой церкви висела большая табличка "Важно, если правда". Перед экономической историей не стоит более важного вопроса, чем вопрос о том, почему индустриализация и сокращение массовой бедности впервые начались, и особенно почему они продолжались. Ее продолжение сделало нас богаче, свободнее и способнее к человеческим достижениям, чем наши предки. Последнее продолжение, наиболее впечатляющее в Китае и Индии, показывает, что весь мир может стать таким. Оно показывает, если вы сомневаетесь, что Европа не была чем-то особенным в генетике. Оно показывает, что в мире инноваций проклятие Мальтуса не имеет силы.
Например, если идеи, этика и "риторика" в значительной степени способствовали такому счастливому результату, то, возможно, нам следует направить наши социальные телескопы также на идеи, этику и риторику. Рассматривать с интересом торговлю, или империализм, или демографию, или профсоюзы, или право собственности - хотя все они очень интересны - не значит выполнить всю научную работу. Идеи - это темная материя истории, игнорируемая на протяжении примерно столетия 1890-1980 гг. В те дни, как я уже отмечал, мы все были историческими материалистами.
Чтобы обнаружить темную материю, нам понадобится новая, более идейно-ориентированная экономика, которая признает, например, что язык формирует экономику. Для такой гуманитарной экономической науки, которая исследуется в этой и других книгах и над которой работают некоторые другие из нас, методы гуманитарных наук станут столь же научно значимыми, как и методы математики и статистики. Такая расширенная экономическая наука будет внимательно изучать литературные тексты и моделировать на компьютерах, анализировать истории и моделировать максимумы, прояснять с помощью философии и измерять с помощью статистики, вникать в смысл священного и излагать как подсчет профанов. Гуманитарии и социологи перестали бы насмехаться друг над другом, начали бы читать книги друг друга и посещать курсы друг друга. Как это естественно делают их коллеги из физических и биологических наук, они стали бы сотрудничать в решении научных задач. Это не очень сложно, что видно на примере обучения аспирантов. Способный гуманитарий может за пару лет освоить математику и статистику в объеме, достаточном для использования их в экономике. Способный экономист, с гораздо большим трудом, за пару лет может освоить риторику и внимательное чтение, чтобы проследить их применение на кафедре английского языка. Что мешает такому научному сотрудничеству, так это насмешливое невежество, а не сложность задачи.
От вас не ускользнет, что, конечно, существует и политическая мораль. Если бы экономика понималась как нечто большее, чем просто благоразумие, то мы могли бы ее реморализовать. Если бы инновации были следствием желательных этических изменений, то мы могли бы их уважать. Риторические изменения, в конце концов, сами по себе были отчасти обратной связью с достоинством и свободой. Достоинство и свобода, в свою очередь, были отчасти результатом (вспомним схему) давно отточенных прав собственности в Европе, средневековых вольностей городов, конкуренции государств, меньших, чем азиатские гиганты, упадка крепостного права за пределами России, теории достоинства личности в протестантизме и более древних авраамических