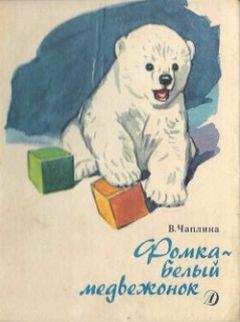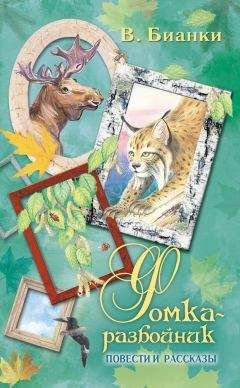жилах у работных людей, и сказал:
— То-то и видать, что ты швед!
В эту минуту, дивно трепеща крылами, совсем низко над ними пронесся щегол. Однако ни Сигов, ни Дамес не обратили на него никакого внимания, хотя обратить и следовало: чудесное Фомкино исцеление стало началом событий, не прошедших для них бесследно. Но они продолжали идти по улице, а щегол полетел дальше, к лесу, и исчез в синеватой дымке вечернего тумана — уже навсегда.
II
Евлампий Максимович трубку подбирать не стал. Вместо этого он отворотился от окна и глянул на себя в зеркало — всякому интересно поглядеть на человека, которому явился ангел.
Хотя зеркало было старое, кое-где секлось трещинками, а в одном месте пожелтело и затуманилось, будто огнем на него дохнули, но наружность Евлампия Максимовича отобразило оно довольно верно. Худой человек высокого росту отражался в зеркале. Старый, прожженный в двух местах халат из лазоревой китайки облегал его вздернутые плечи, широкую плоскую грудь и впалый живот, на котором завязан был китайковый же пояс с изрядно пощипанными кистями. Вместе с тем усматривалась во всей осанке этого человека некая вознесенность, свойственная тем людям, что отдали в жизни немало различных распоряжений. И в лице тоже она усматривалась. Но также заметна была в этом лице грубость черт, усиливаемая красноватым оттенком кожи. Бритое и окаймленное рыжими баками лицо человека в зеркале казалось вовсе обыкновенным — крупный нос, большой бледный рот. Одни лишь глаза — желто-зеленые, чуть выпученные, утяжеленные слойчатыми мешками — выдавали человека, с которым может случиться самое непредвиденное происшествие.
Лет ему было на вид сорок пять, не более.
«Ну вот, — подумал Евлампий Максимович. — Вот он каков есть, отставной штабс-капитан Мосцепанов, коему ангел явился...»
Вошел дядька Еремей, принес подобранную в палисаднике трубку.
— Что ж ты ее принес? — спросил Евлампий Максимович.— Сам ведь ругаешься, что я табак курю. Оставил бы, где лежала.
— А то и принес, — сказал Еремей. — Без трубки-то, поди, нюхать приметесь свое зелье.
— Тебе какая забота — курить, нюхать ли?
— А то и забота... Через пищу, ртом значит, человек давно грешит. Скоромится. Чай пьет да кофий. А нос раньше не грешен был, через него дьявол не пользовался. Нынеча, однако, и нос пал... Курить-то все одно хотя и худо, а нюхать еще того хужши.
— Ну, — Евлампий Максимович растрогался такой преданностью, — так я тебе целковый дам. Хочешь целковый?
— Как не хотеть, — сказал Еремей.
— Ну так и дам! Вот пенсион получу и дам... Ступай с богом.
Еремей ушел, а Евлампий Максимович, покосившись в сторону палисадника, задумчиво приблизился к столу. Стол помещался в углу комнаты, под большой литографией с портрета государя императора Александра Павловича. На столе аккуратно подобранной стопой лежали черновики доношений Евлампия Максимовича на окрестные злоупотребления начальства. Черные списки лежали там, а белые разлетелись голубками в Екатеринбург, и в губернию, и в Санкт-Петербург. Только что может белый голубок? Не выклевать ему неправды и беззакония. Лишь тяжкую, как маршальский жезл, славу ябедника принесли Евлампию Максимовичу эти голубки на своих крыльях.
Впрочем, в последнее время он прошения свои писать оставил, причиной чему был отчасти их неуспех, а отчасти обстоятельства, о которых будет сказано далее.
Евлампий Максимович отвернул уголок верхнего листка и взглянул на дату — прошение написано было почти год назад, в июле. «Так-то, братец, — подумал он. — Потому и ангел тебе явился...»
Поднял голову, посмотрел на литографию и поразился— лицо государя удивительнейшим образом сходствовало с тем ликом, который только что предстал перед Евлампием Максимовичем в палисаднике. То же кроткое сияние излучало это лицо, та же сквозила в нем нежная розоватость, и даже губы сложены были так, словно вот- вот обозначат заветное указание, явившееся от ангела.
Евлампий Максимович прошагал в сенцы, зачерпнул из ведра ледяной воды, выпил. Еще зачерпнул и еще попил, а остатки вылил себе на голову. Его густые прежде, рыжеватые волосы за последние годы заметно прореди- лись, и холодные струйки щекотно пробежали по коже. Обтерев лоб рукавом халата, Евлампий Максимович воротился в комнату, вновь сел у окна и запалил трубку. Однако в скором времени мысли его уклонились от того русла, по которому он им назначил течь. Немедленно захотелось вдруг узнать, что делает государь в настоящую минуту, чем заняты тело его и душа. Несколько картин, сменяя одна другую, пронеслись в мозгу: смотр, бал, одинокое бдение в рабочем кабинете. Но картины были тусклы, потому малоубедительны, и Евлампий Максимович оставил этот труд воображения.
Лишь присказка почему-то в памяти всплыла: «Близ царя — близ смерти».
А государь император Александр Павлович принимал в этот вечер известного противника рабства, американского квакера Томаса Шиллитоу. Они сидели вдвоем в одной из малых гостиных Царскосельского дворца. Разговор шел о несчастной судьбе американских невольников, и ничего удивительного в этом не было, поскольку государь не раз показывал себя решительным сторонником аболиционизма.
Волосы Томаса Шиллитоу покрывала простая черная шляпа из недорогого сукна. Она и вообще-то, сама по себе, выглядела в покоях дворца довольно странно, а будучи надетой на голову —просто чудовищно. Но государя, казалось, это ничуть не смущало. Он уже имел дело с квакерами и посвящен был в их учение о греховности снимания шляп перед кем бы то ни было. Недаром накануне этого визита пришлось предупредить дежурных адъютантов о предстоящем нарушении придворного этикета.
Подали чай с фруктами и пирожными.
Прежде чем взять чашку, Томас Шиллитоу снял шляпу и на несколько мгновений возвел глаза к высокому, украшенному фигурными кессонами потолку. Затем, убрав шляпу с колен, пристроил ее на соседних креслах. Государь воспринял это как должное. Он понял, что в настоящую минуту снимание шляпы не было грехом — она снималась не перед светским владыкой, а перед богом, пославшим пищу.
Однако, когда гость на предложение положить в чай сахар отвечал укоризненным покачиванием головы, государь не мог сдержать недоумения.
— Русские раскольники не пьют чаю, — сказал он.— Но сахар употребляют и они. Самый цвет его не вызывает мысли о грехе. Чем он заслужил вашу немилость?
Государь сидел вполоборота к собеседнику. Он был глух на одно ухо, еще в юности пораженное сильным громом артиллерии. Время от времени Томас Шиллитоу видел профиль государя. Ясный, словно вырезанный на камее, он напоминал профиль его великой бабки, императрицы Екатерины. Казалось, этот профиль должны были украшать мирт, лавр и олива.
— Моя община, —