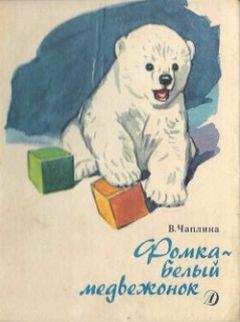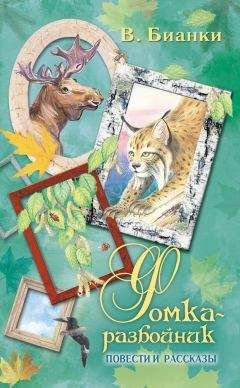вежливо объяснил Томас Шиллитоу, — решила отказаться от употребления сахара, поскольку он есть плод труда невольников.
Государь сочувственно улыбнулся, и его собеседник не мог не отметить, что русский император прекрасно владеет улыбкой глаз, этим искусством избранных.
Наконец государь поднялся, давая знать, что аудиенция окончена. Томас Шиллитоу надел шляпу и, выразив восхищение встречей с могущественнейшим из монархов мира, покинул гостиную, сопровождаемый дежурным флигель-адъютантом. Черная шляпа исчезла за бесшумно прикрывшимися створками дверей, и государь не мог отказать себе в удовольствии припомнить взгляд адъютанта, брошенный на эту шляпу. Если бы тот смотрел на нее долее, сукно, наверное, начало бы дымиться под этим излучавшим» негодование взглядом. Господь бог, изгонявший из рая Адама и Еву, смотрел на них, пожалуй, с меньшим неодобрением. «Так и возникают легенды»,— с усмешкой подумал государь. Но, несмотря на усмешку, мысль эта была ему приятна. Он подошел к окну и минуты три бездумно смотрел на белевшие среди листвы мраморные торсы статуй. Возле пруда в зеленых сумерках парка смутно угадывались светлые пятна дамских туалетов. Слышался слабый смех, томящий душу грустным предчувствием любви и лета, которым уже нет ни времени, ни сил радоваться.
Поздно вечером, после прогулки, государь пил зеленый чай и кушал чернослив, приготовленный для него без кожицы. Затем он опустился на колени возле портьеры и шепотом прочел на память свой любимый девяносто первый псалом. Начиная с лета двенадцатого года, этот псалом всегда давал ему вечернее успокоение. Государь вообще был человек религиозный. Как писал позднее лейб-хирург Тарасов, у него от ежеутренних и ежевечерних молитв, совершаемых на коленях, к концу жизни образовалась «омозолестелость общих покровов на верху берца у обеих ног».
Ангел, однако, не спешил ему являться.
Впрочем, государь и не думал об этом. Впервые о такой возможности он задумался после беседы с отставным штабс-капитаном Мосцепановым. Но до этой беседы оставался еще год с лишком. А пока, чтобы проникнуть в обстоятельства, к ней приведшие, нам небезлю- бопытно будет прислушаться совсем к иной беседе.
III
На другое утро Сигов порядочно был удивлен, когда к нему в контору явился Мосцепанов и потребовал показать бумаги, касающиеся нижнетагильского воспитательного дома для зазорных младенцев.
Конечно, Мосцепанов у него потребовать ничего не мог, потому что хотя и дворянин был, и артиллерии штабс- капитан, но отставной, не при деле. А сам Сигов при деле находился, да еще при каком! Но Мосцепанов никогда ни о чем не просил. О надобностях своих он говорил с таким видом, будто за его спиной, как в прежние, давно минувшие годы, зияли дула орудий и канониры стояли с зажженными фитилями. И такова была сила его убежденности, что впрямь виделись многим пушки и канониры и даже запах дыма слышался от горящей фитильной пакли. Сигову определенно слышался.
— Какие бумаги-то? — спросил он. — Вот разве указ господина владельца... В котором году он выдан был?
— В одна тысяча восемьсот шестом, — сказал Евлампий Максимович.
Сказал и будто гирьку на весы поставил — извольте, дескать, получить на ваши: золотничок к золотничку!
— Ну вот, — оживился Сигов. — Там все и прописано. Приказали, мол, следуя велению сердца, исполненного человеколюбия, из сожаления к несчастно рождаемым устроить воспитательный дом... И прочая.
— Указ мне,ни к чему! — отрубил Евлампий Максимович.
Он сидел перед управляющим, широко раздвинув колени и уперев в пол камышовую трость с медным набалдашником. Сигов знал, что без этой трости Мосцепанов с его беспалой левой ногой ходок никудышный. Но даже не подозревал, сколь неприятно Евлампию Максимовичу такое увечье. Ногу ему покалечило в сражении под Шампобером, в кампанию четырнадцатого года во Франции. Евлампий Максимович бывал во многих сражениях, под Бородином ранен был, но самое заметное свое увечье, принуждавшее его носить один сапог больше другого, получил в незнаменитом сражении под Шампобером», где разгромлен был корпус Олсуфьева и пленен сам корпусной командир. Кроме того, увечье это произошло не от французской пули, ядра либо палаша, но от колеса орудия его батареи.
— Да что случилось-то? — прямо спросил Сигов.— Откуда надобность такая явилась?
Майский день за окном был чист, пригож, и если располагал к какому разговору, то уж никак не про зазорных младенцев.
— Ведомости давай, где средства, на дом отпускаемые, записаны!
Тут Сигов начал кое-что понимать.
— Изволили опять непорядочен какой углядеть? Так вы уж помодчайте с письмишком-то. Глядишь, и сами исправимся. Вы укажите только!
— Семь лет невестка в доме, не знает, что кошка без хвоста! Что указывать. Коли сердце не указало, так и я не указчик.
Пока еще от ябед Мосцепанова управляющий ощутимого урону не имел. Но беспокойства имел немалые. Мосцепанов многое знал в силу природной въедливости своей. И писать умел, воспаряя слогом. А Сигов воспарять вообще не умел, и слогом тем более. Но он зато другое умел. И имел кое-что к тому же, чего Мосцепанов не имел. Пять домов, к примеру, имел, из них один — каменный.|
До сих пор прошения Мосцепанова проделывали следующий оборот. Те, что посланы были в Пермь, в Горное правление, или в Екатеринбург, в правление окружное, возвращались для разбирательства нижнетагильскому горному исправнику Платонову Павлу Андреевичу. А тот, вздохнувши, вручал их Сигову со скромным увещеванием. Платонов понимал, что Сигов не из своих лишь интересов законы нарушает, но и из владельческих тож. И даже, можно сказать, из казенных, потому как от хорошего железа всему государству прибыток. А Мосцепанов вроде об законах печется, а казенного и владельческого интереса не блюдет. По первому взгляду выходит, будто он государю верный человек, по второму же — вредный.
Пока Мосцепанов молчал, Сигову припомнился случай со штейгером Сидором Ванюковым. Тот во хмелю ударил ножом солдата, да и уложил насмерть. Судьба ему была прямая — на каторгу идти. Но как заводу такого нужного человека лишиться? Вот и пришлось за- место него другого отправить. Не по закону, конечно, но что делать. Подучили одного мужика наговорить на себя, обещались, что возвернут после и озолотят, дали
бабе его пару красненьких — и все. Мужика выбрали простого, темного. От такого хозяйству убыток невелик. Да и Ванюков теперь по струночке ходит. Потеет, как каторжный, и денег не просит. Мосдепанову же это все едино, пронюхал и написал. Обошлось, однако, но могло и не обойтись, окажись кое-кто в Перми понесговорчивее... Те же письма, что Мосцепанов в столицу отправлял, возвращались с резолюциями к берг-инспектору Булгакову, а затем прежним путем доходили все