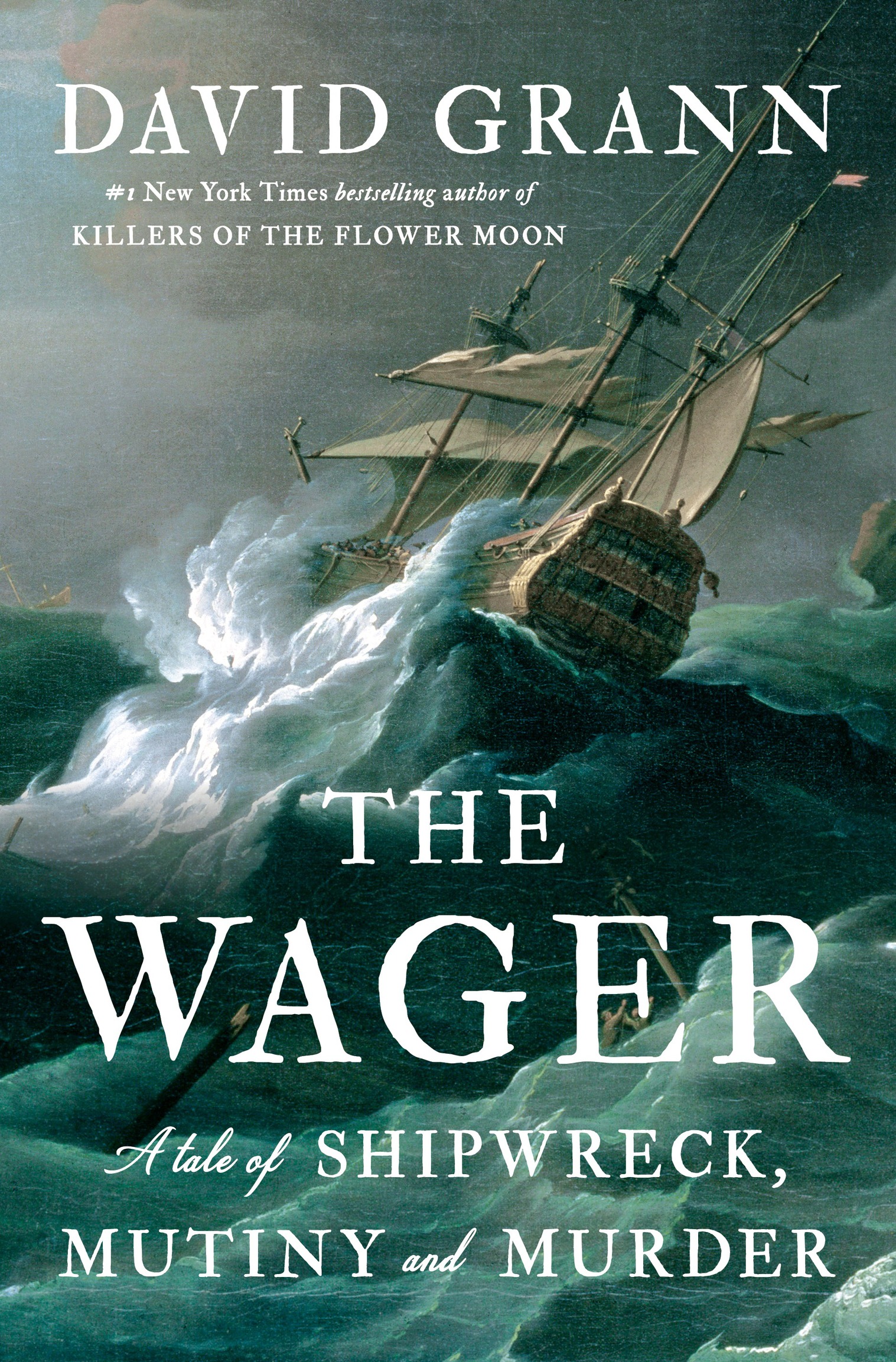Генри Козенсу; часто непокорный боцман Джон Кинг, послушно держащий команду на посту; рулевые, маневрирующие носом в тисках течений; синоптики, управляющие парусами; плотник Джон Камминс и его помощник Джеймс Митчелл, предотвращающие повреждения корпуса. Даже неопытные вайстеры должны присоединиться к этим усилиям.
Стоя на квартердеке, обдавая лицо ледяными брызгами, Чип собрал все силы, пытаясь спасти корабль. Его корабль. Каждый раз, когда "Вэйджер" начинал удаляться от острова, течение снова притягивало его к себе. Волны разбивались о высокие скалы, скрежеща и извергаясь. Рев был оглушительным. Как сказал один из моряков, остров, казалось, был создан для одной цели - " уничтожить жизни хрупких смертных". Но Чип сохранял самообладание и управлял всеми элементами корабля, пока постепенно, удивительным образом, не вывел "Вэйджер" в безопасное место.
В отличие от побед в сражениях, подобные подвиги в борьбе с природными стихиями, зачастую более опасными, не приносили никаких лавров, то есть ничего, кроме того, что капитан описывал как гордость команды корабля за то, что она выполнила свой жизненно важный долг. Байрон удивлялся, что они " были очень близки к тому, чтобы разбиться о скалы", и все же "мы старались сделать все, что в наших силах, чтобы наверстать упущенное и вернуться на прежнее место". Суровый Балкли оценил Чипа как " превосходного моряка", добавив: "Что касается личной храбрости, то ни один человек не проявил ее в большей степени". В тот момент, когда большинство из них испытали последний всплеск радости, Чип стал тем, кем он всегда себя представлял, - властелином моря.
ГЛАВА 5. Буря внутри бури
Штормы не прекращались ни днем, ни ночью. Джон Байрон с трепетом смотрел на волны, которые разбивались о борт "Вэйджера", раскачивая 123-футовое судно так, словно оно было не более чем жалкой гребной лодкой. Вода просачивалась практически через все швы корпуса, заливая нижние палубы и заставляя офицеров и членов экипажа покидать свои гамаки и койки; теперь уже не существовало понятия "под погодой". У людей горели пальцы, когда они хватались за мокрые канаты, мокрые верфи, мокрые обтекатели, мокрый штурвал, мокрые лестницы, мокрые паруса. Байрон, промокший не только под проливным дождем, но и на волнах, не мог удержать на своем теле ни одной сухой нитки. Казалось, что все вокруг капает, рассыхается, разлагается.
В марте 1741 г., когда эскадра неслась сквозь воющий мрак к неуловимому мысу Горн (где именно он находился на карте?), Байрон старался держаться на вахте. Он расставлял ноги, как ногастый гаучо, и держался за что-нибудь надежное - иначе его могло выбросить в пенистое море. В небе сверкнула молния, промелькнув перед ним, а затем мир стал еще чернее.
Температура продолжала падать, пока дождь не превратился в снег и снег. Кабели обледенели, и некоторые люди получили обморожение. " Ниже сорока градусов широты нет закона, - гласила моряцкая пословица. "Ниже пятидесяти градусов нет Бога". А Байрон и остальные члены экипажа находились сейчас в "яростных пятидесятых". Ветер в этих краях, отмечал он, дует " с такой силой, что ничто не может ему противостоять, а море так высоко, что оно работает и разрывает корабль на куски". Это, по его мнению, "самое неприятное плавание в мире".
Он знал, что эскадра нуждается в упорстве каждого человека. Но почти сразу после того, как 7 марта "Уэйгер" прошел пролив Ле-Мэр, он заметил, что многие из его товарищей уже не могут подняться из своих гамаков. Их кожа стала синеть, а затем чернеть как уголь - " пышность, - по словам преподобного Уолтера, - грибковой плоти". Их лодыжки ужасно распухли, и то, что их разъедало, продвигалось вверх по телу, к бедрам, бедрам и плечам, как какой-то едкий яд. Школьный учитель Томас вспоминал, что вначале он ощущал лишь небольшую боль в большом пальце левой ноги, но вскоре заметил твердые узлы и язвы, распространяющиеся по всему телу. Это сопровождалось, писал он, " такими сильными болями в суставах коленей, лодыжек и пальцев ног, которые, как мне казалось до того, как я их испытал, человеческая природа никогда не могла бы выдержать". Позже Байрон заразился этим ужасным заболеванием и обнаружил, что оно вызывало " самую сильную боль, какую только можно себе представить".
По мере того как беда проникала в лица моряков, некоторые из них стали напоминать чудовищ из их воображения. Их налитые кровью глаза выпучились. Зубы выпали, как и волосы. Их дыхание источало то, что один из спутников Байрона назвал нездоровым зловонием, как будто смерть уже настигла их. Хрящи, скреплявшие их тела, казалось, расшатывались. В некоторых случаях даже старые травмы проявлялись вновь. У человека, пострадавшего в битве при Бойне, которая произошла в Ирландии более пятидесяти лет назад, древние раны вдруг прорезались заново. " Еще более удивительно, - заметил преподобный Уолтер, - что одна из костей этого человека, зажившая после перелома в битве при Бойне, теперь снова рассосалась, "как будто никогда и не срасталась".
Кроме того, было воздействие на органы чувств. В один момент мужчин могли одолевать видения буколических ручьев и пастбищ , а затем, осознав, где они находятся, они погружались в полное отчаяние. Преподобный Уолтер отметил, что это " странное уныние духа" характеризовалось "дрожью, трепетом и... самыми ужасными страхами". Один из медиков сравнил это явление с " падением всей души". Байрон видел, как некоторые из людей впадали в безумие - или, как писал один из его спутников, болезнь " проникала в их мозг, и они сходили с ума".
Они страдали от болезни, которую один английский капитан назвал " морской чумой": цинги. Как и все остальные, Байрон не знал, чем она вызвана. Цинга, поражавшая компанию после как минимум месяца пребывания в море, стала великой загадкой эпохи мореплавания, погубив больше моряков, чем все остальные угрозы, включая пушечные бои, штормы, кораблекрушения и другие болезни, вместе взятые. На кораблях Энсона цинга появилась после того, как люди уже были больны, что привело к одной из самых тяжелых морских эпидемий. " Я не могу претендовать на то, чтобы описать эту ужасную болезнь, - сообщал обычно флегматичный Энсон, - но ни одна чума не сравнится с той степенью, в которой мы ее пережили".
Однажды ночью, во время бесконечного шторма, когда Байрон боролся со сном на своей промокшей, дребезжащей койке, он услышал звон восьми колоколов и попытался выйти на палубу для очередной вахты. Пробираясь по лабиринту корабля, он с трудом мог видеть