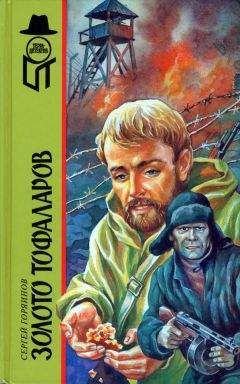В тот вечер Павловский занял свой обычный столик у окна, весь зал, парадный и запасной вход перед глазами. Музыканты усаживались перед пюпитрами, настраивали инструменты, зал постепенно заполнялся. Большая группа немецких офицеров шумно заняла центр, заказала дрянной водки местного розлива и много пива. Подходили русские офицеры, кто в форме, кто в штатском, какие-то расхристанные молодые люди в студенческих тужурках с мутным взглядом кокаиновых глаз, одинокие немолодые дамы, и молодые тоже, бросавшие по залу острые, словно бритвы, взгляды. Несколько семейных пар, видимо из местной интеллигенции, чиновничества, либо приезжие из Петрограда или Москвы и застрявшие здесь до лучших времён, сели рядом и попросту, непринуждённо разговаривали между собой. Вскоре все столики оказались занятыми.
Павловский заказал стейк, блинчики с ливером, слабосолёной норвежской селёдки с луком, варёным картофелем и горошком. На выразительный взгляд ротмистра официант улыбнулся и тихо сказал:
– Будет, не извольте беспокоиться.
Вскоре в запотевшем от холода хрустальном графине на столе появилась янтарная «зубровка». Не успел Павловский наполнить третью рюмку, подошедший невысокий худощавый артиллерийский капитан спросил:
– Прошу прощенья, сударь, если у вас не занято, разрешите присесть к вашему столику? Сегодня в ресторане аншлаг.
– Сочту за честь. – Павловский ответил без всякой радости.
Капитан сделал скромный заказ: порцию шнапса, жареную щуку с картофелем и квашеной капустой. С интересом оглядел тарелки Павловского.
– Разрешите представиться, капитан Ерофеев Анатолий Алексеевич.
– Ротмистр Павловский Сергей Эдуардович. Пока исполняют ваш заказ, давайте, капитан, выпьем за знакомство. – Павловский наполнил рюмки ароматной «зубровкой».
Слово за слово, рюмка за рюмкой, офицеры поведали кратко о себе. Капитан Ерофеев, как и Павловский, воевал в Восточной Пруссии, отступал за Неман, под Ригой командовал гаубичной батареей, был ранен, лечился в госпитале здесь во Пскове, после выписки немцы даже в плен не взяли, дали немного денег и выставили на улицу.
– А вы, – спросил Павловский, – в комендантском управлении на учёт встали?
– Встать-то встал, а что толку? Денег дали крохи, кормят обещаниями о формировании Псковского отдельного добровольческого корпуса. А скажите, ротмистр, немцы что, идиоты? Они взвода русского боятся, а нам сказки про корпус рассказывают. Хотел я на юг податься, в Добровольческую армию, да денег нет, не вырваться отсюда.
Павловский заказал ещё «зубровки». Заиграл оркестр. На сцену вышла высокая, хорошо сложенная блондинка в длинном чёрном бархатном платье с глубоким декольте. Театрально обняв плечи гибкими, словно шеи лебедей, руками, она низким бархатным голосом с грудным оттенком запела романс Штейнберга «Белой акации гроздья душистые». Павловский обомлел. Он слушал только её, про уже захмелевшего капитана забыл. И только когда она закончила, низко поклонилась и удалилась за ширму, Павловский услышал полупьяное ворчание капитана:
– Ротмистр, здесь клоака, одна сплошная гниль. Мы все тут погибнем от тоски и пьянства. Давайте уедем вместе в Ярославль. Там намечаются большие дела. Там великий террорист Борис Савинков готовит мятеж против большевиков. Глядите, ротмистр, – Ерофеев стал хватать Павловского за руку, – глядите, в Самаре большевиков под зад, там теперь Комуч [15] правит. Скоро адмирал Колчак возьмёт Омск, и большевикам в Сибири конец. Поехали, ротмистр, в Ярославль, там у меня дядька родной.
Павловский подозвал официанта, расплатился за капитана и дал знак увести пьяненького. Двое здоровенных бородатых вышибал из бывших городовых взяли капитана аккуратно под руки и с почтением вывели из зала. Так Павловский услышал о роли Бориса Викторовича Савинкова в борьбе с большевиками. Он тогда и представить себе не мог, какую роль Савинков вскоре сыграет в его судьбе.
Певица вновь вышла из-за ширмы и запела «Вы просите песен, их нет у меня…». Она заметила внимание Павловского и с лёгким кокетством, но без обычной в таких заведениях пошлости, бросала взгляды в его сторону. Взгляды эти, будто острые стрелы, обжигали слегка захмелевшего ротмистра, в его сознании возникали альковные картинки с его и белокурой певицы участием. Он встряхнул головой, пытаясь выбросить назойливые мысли, попридержал за руку официанта.
– А скажи, голубчик, кто она, этот белокурый ангел?
Официант усмехнулся, нагнулся к уху Павловского и доверительно зашептал:
– Боюсь, ваше благородие, не ангел это вовсе. Скорее дьявол во плоти.
– Ты сможешь передать ей записку?
Официант вновь криво усмехнулся и также шёпотом ответил:
– Смочь-то смогу, чего не смочь. Только глядите, вашбродь, дама она непростая, уж сколько достойных мужчин об неё расшиблось, и не счесть.
Павловский на салфетке набросал: «Государыня! Не соблаговолите ли выпить бокал шампанского с одиноким джентльменом?» Официант унёс записку и десять полученных за услугу марок.
Ресторанный вечер медленно шёл к закату. Зал покинули семейные пары. Группами и поодиночке, трезвыми и не очень уходили русские офицеры. Вышибалы деликатно вывели совершенно одуревших от кокаина студентов. Напившихся в хлам немецких офицеров увели прибывшие денщики. Блондинка исполнила ещё пару романсов, но в сторону Павловского ни разу не взглянула. Прождав в надежде ещё около часу, он, в конец расстроенный, стал собираться. Подошёл официант, получил по счёту и чаевые, вновь доверительно шепнул:
– Плюньте, вашбродь. Я вам сей минут шикарную мадаму обеспечу, не хуже этой белобрысой будет. Девушка чистая, грамоте обучена, манеры знает, со швалью не вошкается.
Девица оказалась и вправду с виду приличной. Такая же высокая и статная, как и поющая блондинка, с развитой грудью, густыми волосами, забранными сзади широкой шёлковой лентой. Её весьма симпатичное лицо с большими зелёными глазами и мягким изгибом чувственных губ не выдавало в ней тридцатилетнюю, порядком испытавшую женщину. От неё исходил слегка горьковатый запах настоя трав. Павловский получил от неё всё, чего хотел. И даже больше. Звали её Татьяной.
5
Маленький отряд из семи всадников ночью миновал с помощью немцев демаркационную линию и стал уходить на восток, к Порхову, но не проторённым Павловским путём, а южнее, по Островскому тракту. Шли споро, ночи-то в июне короткие. Обходили сёла, деревни и хутора, ночёвки делали глубоко в лесу, костры разводили в лощинах, балках, оврагах.
В рейд отобрали самых опытных кавалеристов. Помощником к Павловскому определили поручика Костылёва, воевавшего два года в драгунском полку, физически крепкого, ловкого, сообразительного и осторожного. Павловский увидел в нём, своём одногодке, что-то близкое, родственное. Скорее всего, это были расчётливый риск, выносливость, великолепная реакция и цинизм. На первой же ночёвке Павловский, отозвав Костылёва в сторону, поведал ему о своём авантюрном плане вывоза из Порхова любимой женщины. Глаза поручика загорелись азартным огнём, и он, благодарный за доверие, ответил:
– Да не вопрос, ротмистр, изымем девушку у красных и доставим в лучшем виде. Вдвоём пойдём или ещё кого возьмём?
– Пойдём вдвоём. Но лишь после выполнения задания. – Павловский с благодарностью пожал руку поручика.
Отряд одели в старые солдатские гимнастёрки и штаны, обули в растоптанные ботинки с обмотками, на мятые фуражки пришили лоскуты красной материи (тогда и в молодой Красной армии не у всех имелись звёзды на головных уборах), к сёдлам приторочили скатки шинелей. Лишь Павловского, считавшегося красным командиром, обули в яловые сапоги. Все были вооружены карабинами, разномастными шашками и револьверами с одним полным барабаном. Винтовочных патронов хватало: кроме тридцати в подсумках, ещё по сто хранилось у каждого в вещмешке. Всё вроде бы сходило за красный отряд фронтовой завесы. Плохо было только с документами. В Псковской комендатуре кое-как сляпали липовые мандаты, при внимательном знакомстве с которыми красные расстреляли бы с радостью каждого. Но что было, то было. И были ещё не очень солдатского вида физиономии, в каждой морщинке, в каждой складочке которых читались кадровые офицеры.