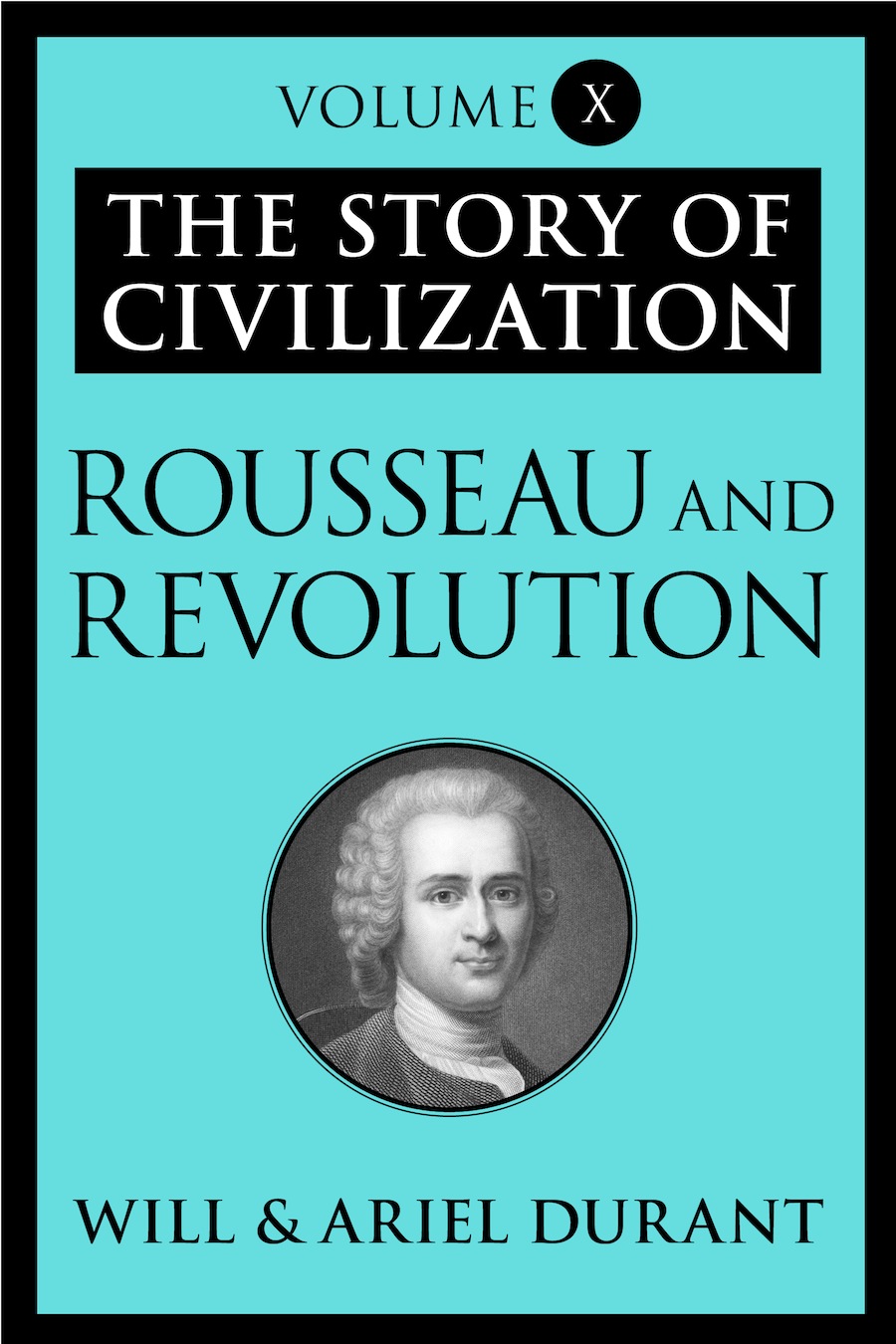было запретных тем; обсуждались самые деликатные проблемы религии, философии или политики; но Жюли, обученная этому искусству мадам Жоффрен, умела успокоить взволнованных и вернуть спор к обсуждению. Желание не обидеть хрупкую хозяйку было тем неписаным законом, который поддерживал порядок в этой вольнице. В конце правления Людовика XV салон мадемуазель де Леспинасс, по мнению Сент-Бёва, был "самым модным, самым посещаемым, в эпоху, которая насчитывала так много блестящего".111
Ни один другой салон не предлагал такой двойной приманки. Жюли, хоть и без отца, но с пятнами, стала второй любовью дюжины выдающихся мужчин. А д'Алембер находился в расцвете сил. Гримм сообщал:
В его беседе можно было найти все, что могло бы научить и отвлечь ум. Он с такой же легкостью, как и с доброй волей, подходил к любой теме, которая могла бы понравиться большинству, привнося в нее почти неисчерпаемый фонд идей, анекдотов и любопытных воспоминаний. Не было темы, какой бы сухой или несерьезной она ни была, которую он не умел бы сделать интересной. ... Все его юмористические высказывания отличались тонкой и глубокой оригинальностью".112
И послушайте Дэвида Хьюма, пишущего Горацию Уолполу:
Д'Алембер - очень приятный собеседник и безупречной нравственности. Отказавшись от предложений царицы и короля Пруссии, он показал себя выше личной выгоды и тщеславных амбиций. ...У него пять пенсий: одна от короля Пруссии, одна от короля Франции, одна как член Академии наук, одна как член Французской академии и одна от его собственной семьи. Вся сумма не превышает шести тысяч ливров в год; на половину этой суммы он живет прилично; другую половину он раздает бедным людям, с которыми связан. Одним словом, я почти не знаю человека, который, за некоторыми исключениями, ... был бы лучшим образцом добродетельного и философского характера".113
Жюли находился на противоположных полюсах по отношению к д'Алемберу во всем, кроме удобства и изящества речи. Но если Энциклопедист был одним из последних героев Просвещения, искавшим разум и меру в мыслях и действиях, то Жюли, после Руссо, была первым ясным голосом романтического движения во Франции, созданием (по словам Мармонтеля) "самой живой фантазии, самого пылкого духа, самого зажигательного воображения, которое существовало со времен Сапфо".114 Никто из романтиков, ни во плоти, ни в печати - ни Элоиза Руссо, ни сам Руссо, ни Кларисса Ричардсона, ни Манон Прево - не превзошел ее ни в остроте чувств, ни в пылкости внутренней жизни. Д'Алембер был объективен или старался быть таковым; Жюли была субъективна до уровня порой эгоистичного самозабвения. И все же она "страдала вместе с теми, кого видела страдающими".115 Она из кожи вон лезла, чтобы утешить больного или обиженного, и лихорадочно добивалась избрания Шастелюкса и Лахарпа в Академию. Но когда она влюбилась, то забыла обо всем и обо всех - в первом случае о мадам дю Деффан, во втором и третьем - о самом д'Алембере.
В 1766 году в салон вошел молодой дворянин, маркиз Хосе де Мора-и-Гонзага, сын испанского посла. Ему было двадцать два года, Жюли - тридцать четыре. Он был женат в двенадцать лет на девочке одиннадцати лет, которая умерла в 1764 году. Жюли вскоре почувствовала очарование его молодости, а возможно, и богатства. Их взаимное влечение быстро переросло в обещание жениться. Услышав об этом, отец приказал ему отправиться на военную службу в Испанию. Мора отправился, но вскоре сложил с себя полномочия. В январе 1771 года у него началось кровохарканье; он отправился в Валенсию, надеясь на облегчение; не вылечившись, он поспешил в Париж к Жюли. Они провели много счастливых дней вместе, к удовольствию ее маленького двора и тайным страданиям д'Алембера. В 1772 году посол был отозван в Испанию и настоял на том, чтобы сын поехал с ним. Ни один из родителей не согласился на его женитьбу на Жюли. Мора оторвался от них и отправился на север, чтобы воссоединиться с ней, но умер от туберкулеза в Бордо 27 мая 1774 года. В тот день он написал ей: "Я ехал к тебе и должен умереть. Какая ужасная участь! ... Но вы любили меня, и мысль о вас до сих пор дает мне счастье. Я умираю за тебя". С его пальцев сняли два кольца: на одном была прядь волос Жюли, на другом выгравированы слова: "Все проходит, но любовь длится". Великодушный д'Алембер писал о Море: "Я от себя лично сожалею об этом чувствительном, добродетельном и высокодуховном человеке, ... самом совершенном существе, которое я когда-либо знал. ...Я навсегда запомню те бесценные мгновения, когда душа, столь чистая, столь благородная, столь сильная и столь сладостная, любила сливаться с моей".116
Сердце Жюли разрывалось от известия о смерти Мора, и тем более от того, что в это время она отдала свою любовь другому мужчине. В сентябре 1772 года она познакомилась с двадцатидевятилетним графом Жаком-Антуаном де Гибером, который отличился в Семилетней войне. Более того, его "Всестороннее исследование тактики" было признано шедевром генералами и интеллектуалами; Наполеон должен был носить с собой копию этого труда, аннотированную его собственной рукой, во всех своих кампаниях; а его "Предварительное рассуждение", осуждающее все монархии, сформулировало за двадцать лет до революции основные принципы 1789 года. Мы можем судить о восхищении, которое вылилось на Гибера, по теме, выбранной для обсуждения в одном из ведущих салонов: "Кто больше завидует матери, сестре или любовнице господина де Гибера?".117 У него, конечно, была любовница - Жанна де Монтсож, самая последняя и самая долгая из его любовных связей. В горькую минуту Жюли сурово осудила его:
Легкомыслие и даже жестокость, с которыми он относится к женщинам, проистекают из того, что он не придает им особого значения. ... Он считает их кокетливыми, тщеславными, слабыми, лживыми и легкомысленными. Тех, о ком он судит наиболее благоприятно, он считает романтичными; и хотя он вынужден признать в некоторых из них хорошие качества, он не ценит их более высоко, но считает, что у них меньше пороков, чем добродетелей".118
Однако он был красив, его манеры были безупречны, в его речи сочетались содержательность с чувством, а эрудиция с ясностью. "Его беседа, - говорит мадам де Сталь, - была "самой разнообразной, самой оживленной и самой богатой из всех, которые я когда-либо знала".119
Жюли считала, что ей повезло, что Гиберт предпочитал ее собраниям. Очарованные славой друг друга, они развили то, что с его стороны стало случайным завоеванием, а с ее - смертельной страстью. Именно эта всепоглощающая любовь обеспечила письмам Гибера место во французской литературе и среди самых