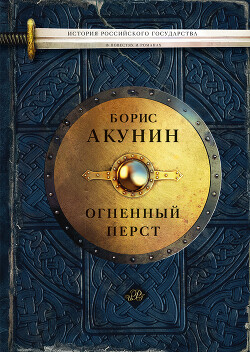– Жофрей этот смешной был, – усмехнулся Борис. Он поглядывал на Ирину, покручивал ус. – Всё вздыхал, на девок греческих не зарился, будто монах какой. Песни жалостные сочинял – баллады.
– Баллады? – тихо спросила княжна. – Про что?
– Про дам-дю-кёр, это по-нашему «сердечная зазноба».
– Я знаю! – прошептала Ирина. – А кого он любил, этот Жоффруа?
– Какую-то франкскую королевну, мужнюю жену.
– Грех-то какой! – возмущенно воскликнула Марья Адальбертовна.
– Ничего не грех. – Борис засмеялся. – Это у них там теперь очень даже можно. Рытарь по своей дам-дю-кёр только сохнет, баллады сочиняет, на турнире за нее бьется, а срамное что – ни-ни. Издали млеет. Как Клюква по Ирине Михайловне.
У Ингваря в руке качнулась стеклянная чарка, пролилось вино. Ирина, покраснев, опустила глаза. А Михаил Олегович расхохотался, и жена ему по-козьи подблеяла.
Зачем Борис про это? И потом, прошено же было: не звать «Клюквой». Уж при Ирине-то!
– Брат у тебя золото, – сказал радомирский князь Ингварю. – Сокол, не тебе чета. Я рад, что ты дурь из головы выкинул. Куда тебе на Ирине моей жениться? Ты ль ей нужен?
– Что? – мертвея переспросил Ингварь.
– Я Бориславу Ростиславичу говорю: «Давай по-добрососедски жить, душа в душу». А он мне: «Мало душа в душу. Давай плоть в плоть. Отдай за меня дочь-красу».
У Ирины щеки из красных стали белыми. Но глаз от стола княжна так и не подняла, не было от нее никакой помощи остолбеневшему Ингварю.
Он взглянул на брата.
Тот успокоительно покивал:
– Молод ты жениться, Клюква. Успеешь. Я князь-Михайле что предложил? Выдаст за меня дочь – станем жить одним княжеством. Он – старший князь, я молодший. Буду дружиной ведать. Если наших и ихних воев вместе собрать – это сила будет. Никто к нам не сунется. Захотим – сами за добычей сходим.
– Так, так! – горячо поддержал радомирский князь. – А помру – всё тебе отойдет, вашим с Иришей деткам.
Что ж Ирина-то? Почему молчит? И не смотрит!
Ингварь вскочил. Качнулась было подняться и княжна, но отец грозно прикрикнул: «Сиди!» – села.
Не помня себя, ничего вокруг не видя, Ингварь бросился прочь.
Во дворе, у крыльца, хрипло крикнул:
– Коня!
– Так только напоили, овса дали…
– Ведите! Живо!
Запустить вскачь, остудить ветром пылающее лицо – единственное, чего сейчас хотелось.
Наконец сел в седло. Поднял руку с плетью – не хлестнул. Со ступенек, утирая жирные губы, спускался Борис. Поманил к себе.
– Не сверкай глазами, Клюква. Так оно ладней будет.
– Ты… ты обещал…
Слова застревали в горле, не проговаривались.
– Мало ль что, – важно молвил Борис. – Мне решать, я князь. Назад едешь? Ну езжай, остынь. А я тут погощу. Потом еще в Чернигов наведаюсь. Давно в большом городе не был… А за Иришу спасибо. – Он подмигнул. – Девка сладкая. Не по твоим зубам. Брось, не горюй. Сыщу и тебе невесту. В обиде не будешь.
Чтоб не хлестнуть плетью по улыбающемуся лицу брата, Ингварь яростно полоснул по крупу коня.
Не привычный к такому обращению Василько тряхнул башкой, пошел боком, да и споткнулся. Ингварь чуть не выпал из седла.
Под хохот радомирской дворни конь небыстрым галопом поскакал к воротам.
«Убью, убью!» – шептал Ингварь – и сам не знал, кого хочет убить.
То ли Бориса – за предательство хуже Иудиного. То ли Ирину – за опущенные глаза. То ли самого себя.
* * *
Бедному, ни в чем не повинному Васильку пришлось еще не раз отведать и плетки, и каблуков. Выносливый, неутомимый, конь сбился с галопа на неровную рысь, потом на судорожный бег, стал хрипеть. Уже вблизи города Свиристеля Ингварь заметил, что с седой морды буланого клоками слетает мыло, и расплакался от жалости. Спешился, обнял старого товарища, попросил прощения. Василько прядал назад, испуганно пуча зрячий глаз. Дальше князь повел Божью тварь бережно, в поводу.
Прохожие кланялись. Ингварь, против обычного, ни на кого не смотрел, только кивал.
На подворье не было ни души – все будто попрятались. Как ни саднила душа, а все ж Ингварь удивился. Самому что ли Василька на конюшню вести?
Но диковинное безлюдье скоро разъяснилось.
Из терема донесся гневный рык. Распахнулась дверь. Оттуда, спиной вперед, вылетел Шкурята, Борисов любимец. Ударился о перила, чуть не упал. За ним выбежал Добрыня Путятич. Схватил за шиворот, с разворота врезал еще раз – Шкурята покатился со ступенек. Внизу поднялся, побежал через двор.
– Всё князю скажу! Ужо будет тебе, старый дурень! – взвыл он, утирая кровь.
– Что-о-?!
Боярин перепрыгнул через перила, ловко приземлился и пустился следом. Нечего и сомневаться – догнал бы. Тогда Шкуряте за «старого дурня» пришлось бы худо. Но здесь Добрыня увидел Ингваря – и сразу понял по его виду: беда.
– Почему так скоро? И почему один? Отказал Михайла? Не сладилось сватовство?
Он знал, куда и зачем поехали братья, поэтому таиться было нечего.
– Сладилось, – коротко, сквозь зубы, сказал Ингварь. – Борис у отца Ирину за себя попросил. Понравилась она ему. И нечего про это… За что Шкуряту мордуешь?
На скуластом лице боярина задвигались желваки, глаза сощурились, будто что-то высматривая. Кулак яростно ухватился за ус.
– Вон оно как… И ты стерпел?
– Сказано: нечего! – взвился Ингварь. – Что тут стряслось? Почему драка? Отвечай, коли спрашиваю!
На бешеный крик Добрыня не обиделся, а наоборот – даже кивнул, будто одобрил.
– У нас тут тоже неладно. Утром, как вы с Борисом уехали, вернулся тиун Лешко, кого ты в Рязань посылал, обоз сушеной рыбы продать. Продал, пять гривен привез.
– Что ж неладного? Цена хорошая. С теми пятнадцатью, что мы за воск выручили, уже двадцать набирается. Хватит евреям первую долю выплатить.
– Не хватит… Понес я серебро в казенную клеть, а там пустые полки. Ты знаешь, Борис приставил смотреть за казной Шкуряту, пса своего. Спрашиваю: где пятнадцать гривен, что за воск получены? Князь, говорит, забрал. И на то, говорит, его княжья воля, а ты мне не указ…
– Как это «забрал»? На что Борису целых пятнадцать гривен?
– Шкурята сказал, Борис после Радомира в Чернигов собрался…
Ингварь не мог опомниться.
– Господь милосердный! Чем же теперь долг платить?
– Это еще не беда, а бедёнка… – Боярин оглянулся и понизил голос. – Пойдем в терем. Покажу тебе нечто…
В горнице, за плотно закрытой дверью, дал в руки свернутый пергамент.
– Что это?
– Нынче же утром Борис, перед тем как ехать, приказал своему стремянному отроку Пикше отвезти Роману, князю Переяслав-Северскому письмо. Пикша мне крестник. Я его к Борису и приставил. Чтоб доглядывал. Показал мне грамотку… Ты прочти.
Переяслав-Северскому князю, своему двоюродному брату, Борис писал так:
«Романе, помнишь ли, как тому восемь лет, юность свою теша, на половцев за весельем и добычей ходили? Ныне мы оба князья, я в Свиристеле на отцовский стол сел. Гостил не своей волей у Тагыза, ненавистного твоего ворога. Не хочешь ли с ним поквитаться, чести и злата добыть? Тагыз из греческого похода много богатства привез. Нападем, себе заберем. Приходи в осень, когда урожай соберешь. Дружина у меня крепкая, но числом невеликая, а вместе бы вышло дело хорошее. Что скажешь?»
– На Тагыз-хана войной? Первыми? – ахнул Ингварь. – И ни мне, ни тебе об этом ни слова? С ума он сошел? Погубить всех хочет?
Боярин молчал, глядел так, будто ждал еще каких-то слов.
– Что делать, Путятич?
– Как «что»? – Добрыня пожал плечами, будто удивился. – Ясно: убить. Он не угомонится, пока не обратит отчину в пепелище. Всем от него лихо.
– Убить?! – пролепетал Ингварь и вспомнил, как, едучи из Радомира, сам себе про то же нашептывал. Но одно дело себе, в сердцах, шепотом, и совсем другое – вот так, рассудительно, в голос.
– Не думай, что Борис всем здесь люб. Старые дружинники на него зуб точат. Он молодым потакает, они стали дерзки, к старшим непочтительны. Все в «рытари» метят. Пойми вот что. – Добрыня цедил слова жестко, будто ронял капли расплавленного железа – ковать наконечники для стрел. – Первый долг князя – перед отчиной, перед людьми. Хочешь добрым быть, жить по-божьи – в монастырь ступай. Не занимай не своего места. Иль ты вправду «князь Клюква», как Борис тебя кличет?