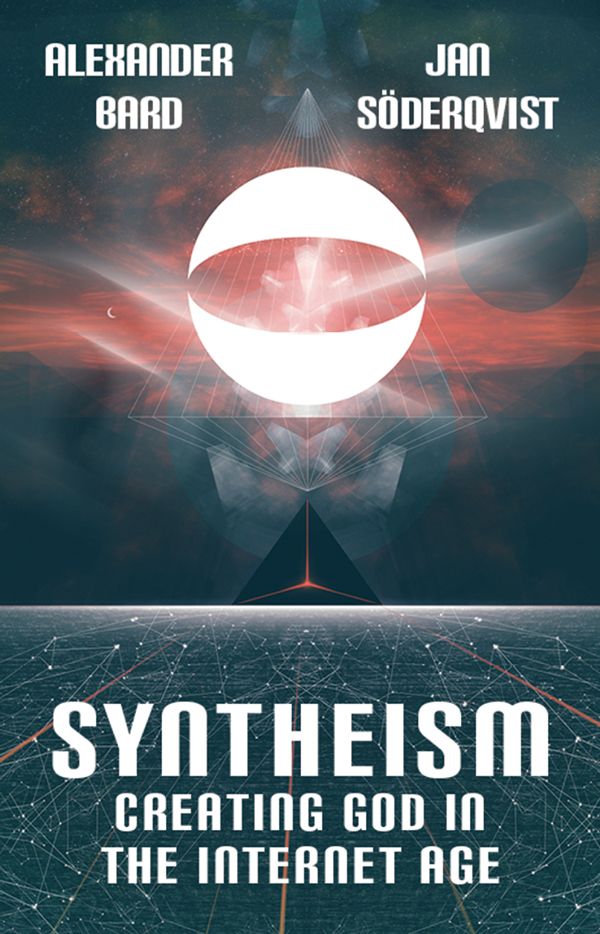Делеза движется в направлении Энтеоса, атеология Бадью - в направлении Синтеоса. Именно пантеология заставляет нас ценить экзистенциальную интенсивность существования, чтобы в дальнейшем развить пантеизм в энтеизм, а атеология побуждает нас жаждать исполнения утопии и заставляет нас завершить атеизм через его углубление в синтетизм.
Во второй части трилогии "Футурика", "Глобальная империя", мы подробно описываем, как перцептивная этернализация мобилистского хаоса существования необходима для того, чтобы мы могли действовать, а мобилизм - это всегда присутствующая демоническая тень этернализма. В этом смысле онтология - это вторичная этернализация первичного мобилизма, представление непредставимого в виде схематической модели, объективация пустоты пустоты. Такое восприятие превращает множественность в функциональные фикции; модели, с которыми разум должен иметь возможность возиться, чтобы иметь возможность мобилизовать обзор и организовать осмысленную и релевантную деятельность вообще. Бадью ставит этернализацию феномена наравне с математизацией бытия. Бесконечность превалирует над конечностью, онтология - то же самое, что и математика. Далее он переходит к необходимости ситуации, концепции Бадью для структурированной презентации множественности, своего рода консолидирующего театрального представления различных фикций. Только в правильной ситуации возможно событие истины, утверждает Бадью. Здесь его вдохновляют и Святой Павел, и Владимир Ленин: для этих мыслителей выбор времени - не просто вопрос стратегической необходимости: он также имеет важное этическое измерение. Ожидание подходящего момента для действия, верного истине, - важный компонент этики Бадью: время - это центральный аспект самой верности.
Так что же тогда является фундаментальным событием - событием, через которое отражаются все остальные события, - если не смерть? Стремление к бессмертию - даже если оно в значительной степени присутствует и у Бадью, и у Мейясу - изначально есть не что иное, как стремление к смерти как к смерти, в отличие от стремления к выживанию как стремления к жизни как к жизни. Только благодаря своей конечности все может обрести смысл, только благодаря своей скоротечности жизнь может быть достойной. Без смертности жизнь и существование теряют всякую интенсивность. Поэтому воля к выживанию колеблется между тремя полюсами: сначала стремление к экзистенциальной интенсивности, а затем желание продлить жизнь, чтобы максимизировать это стремление. Однако это стремление и это желание могут иметь место только в силу гарантии третьего полюса, гарантирующей бесспорную конечность жизни. Таким образом, эта гарантия уничтожения сама по себе является третьим полюсом. В своем полном объеме вечность в авраамическом смысле есть идея, невыносимая, как сам ад, а жизнь в ее сильнейшей интенсивности переживания здесь и сейчас, рассматриваемая на фоне ее быстротечности как бесконечное сейчас - синтетическое событие par excellence - есть самое святое, что существует. Таким образом, сознание всегда действует на основе смерти как высшего гаранта самой воли к жизни. Жить - значит умереть. Но не в этот момент. Позже.
Одержимость информационизма событием - то есть информационизм рассматривает событие как эквивалент вечности монотеизма и прогресса индивидуализма как метафизические двигатели, порождающие динамику внутри каждой из этих парадигм, - обусловлена большим, чем когда-либо в истории, очарованием смертью и одержимостью ею. Независимо от того, рассматриваем ли мы глубочайшее стремление человека как стремление к выживанию (движущая сила Пантеоса) или как стремление к бессмертию (движущая сила Атеоса), мы возвращаемся к нашей одержимости смертью. Смерть как понятие, таким образом, постоянно колеблется между Пантеосом и Атеосом. Но в чем же тогда состоит наша одержимость? Что побуждает Бадью превращать все формы смысла в смысл, основанный на внезапно возникшем истинном событии, которое, в свою очередь, отражает смерть?
Принято считать, что смерть пугает нас болью, печалью, одиночеством, бессилием и тайной, с которой она ассоциируется. Но даже если отбросить боль, печаль и одиночество, очарование все равно остается прежним. Таким образом, бессилие и тайна остаются. Другими словами, смерть пугает нас тем, что показывает наше бессилие и отсутствие знаний. Она унижает всех нас, и не в последнюю очередь тех из нас, кто в течение жизни обладал властью и социальным статусом. Она лишает нас антропоцентрического интернарциссизма. Но смерть также обнажает нашу экзистенциальную банальность, нашу совершенно несуществующую значимость для Вселенной. И что пугает нас больше всего, так это то, как смерть показывает наше собственное отсутствие значимости для божественного, то есть для Пантеоса. На самом глубоком уровне христианская ложь заключается в том, что каждый из нас что-то значит для Бога, что мы на самом деле желанная партия и заветные драгоценности для бога, которому, таким образом, не остается ничего другого, как сидеть и опекать нас и таких, как мы (в буквальном смысле), в вечности, как мертвый бог-робот, окруженный мертвыми тряпичными куклами.
Смерть показывает, как мало мы значим, как мало нас будет не хватать после смерти, как просто и почти оскорбительно безболезненно жизнь продолжается без нас. И то, за что мы чувствуем себя виноватыми на самом глубоком уровне, - это отсутствие вины, когда другие люди умирают и навсегда исчезают из нашей собственной жизни. Жизнь продолжается: что еще она должна делать? Именно в этом случае смерть постоянно бьется о наш экзистенциальный опыт. Мы никогда не сможем объяснить себе, почему мы должны быть настолько интересны и важны для Пантеоса, что Пантеон должен поддерживать нас после смерти ради самого Пантеоса. Нами движет не желание бессмертия, а банальный страх смерти как определенной сингулярности, после которой уже ничто не будет прежним. Отсрочка этого события - это воля к выживанию, и эта воля оформляется через все остальные менее значимые события, которым мы придаем решающее значение как в нашей собственной истории, так и в истории всего человечества.
Квентин Мейяссу формулирует свой радикальный утопизм в книге "Божественное небытие" (L'inexistence divine), которая публикуется частями и на момент написания статьи еще не завершена. По его мнению, история Вселенной содержит три решающих скачка, которые нельзя понимать как изначально заложенные фазовые переходы - как их представляют себе тоталисты от Платона до Эйнштейна, - а скорее как случайные эмерджентности, которые внезапно появляются из ниоткуда и из ничего, и которые радикально меняют существование, не обладая при этом никакими таинственными свойствами. Физика, безусловно, подчиняется определенным законам в нашей части пространства-времени, но физика как таковая не подчиняется никаким заранее установленным законам - напротив, она радикально условна. Например, Вселенная в целом, очевидно, может расширяться значительно быстрее скорости света, что с предельной ясностью доказывает существование космической инфляции. Таким образом, законы физики, а точнее, ее поведение или привычки, могут меняться как угодно и когда угодно, причем без согласования с нами. В противном случае эти модели поведения должны были бы предшествовать физике, которую они, как считается, регулируют, а естественные науки никогда не находили никакой