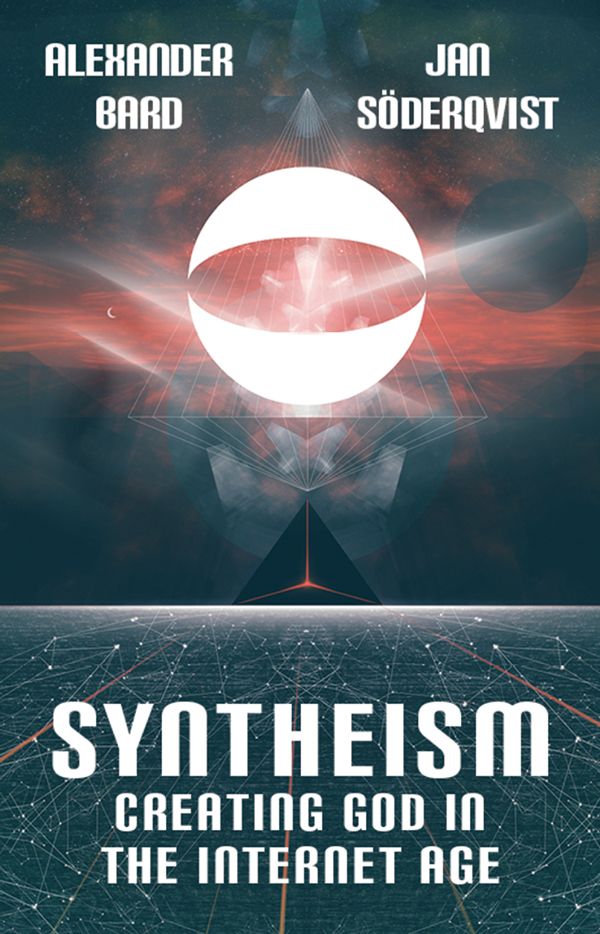другие синтетики находят компактный монизм в квантовой физике, на котором можно построить свое мировоззрение, и утверждают, что все остальное было бы нечестным. Когда другие синтетики приветствуют Бога как такового, как Синтеоса, а не Бога как некое специфическое свойство - атрибут Бога для них так же вторичен, как атрибуты любимого человека, - он бросает нам вызов своим Богом как справедливостью.
Мейясу вдохновляют Бадью и Славой Жижек, которые также строят утопические системы вокруг события, метафизического центра информационизма. Событие - это кардинально меняющееся событие, которое внезапно происходит и затем решительным образом меняет ход истории. Небольшие события постоянно происходят в жизни отдельного человека или на местной социальной арене, но настоящие сингулярности навсегда влияют на будущее человечества и планеты. Такие события, как изобретение разговорного языка, письменности, печатного станка и Интернета, даже породили совершенно новые исторические парадигмы с новыми структурами власти, за которыми последовали новые метафизики, захватившие мир и разгромившие старые парадигмы и нарративы. Следовательно, с приходом информационизма мы вынуждены переписать всю историю в историю событий, чтобы сделать ее понятной и актуальной для себя и для будущих поколений.
Как бы ни подчеркивали Мейясу, Бадью и Жижек имманентное в своих вожделенных утопических событиях, все они в конце концов приходят к сильной и специфической для каждой культуры трансцендентализации своих воображаемых видений. В духе Канта субъект все еще свободен от объекта и пытается приручить его в соответствии со своей ограниченной и, прежде всего, закрытой фантазией относительно будущего. Утопия для Мейяссу - это приход справедливости как будущего божества, но в чем именно состоит эта справедливость и как она связана с необходимой до сих пор направленностью человека на выживание в рамках решающего экзистенциального опыта конечности, Мейяссу так и не удается ответить. Поэтому иногда возникает соблазн назвать его версией прекрасной души нашего времени в саркастическом смысле Гегеля, поскольку Мейяссу любит использовать причудливые понятия, которые, однако, не имеют четкой привязки к имманентной реальности современного человека. Тем временем Бадью и Зизек смешивают увлечение мальчишеской комнаты военными игрушками и жестокими видеоиграми с романтической страстью к мачо-тиранам и кровавым революциям, таким как студенческие протесты 1960-х годов в Европе. Из этого ностальгически окрашенного гибрида они выжимают событие как очередную кровавую революцию.
Для Зизека революция необходима даже на онтологическом уровне. Как и его ролевая модель Ленин, Зизек утверждает, что ревизионизм - поэтапный переход к коммунистическому обществу - невозможен, поскольку каждый шаг в ревизионистском процессе сохраняет слишком много того, что было предосудительным в дореволюционном обществе, того, что может уничтожить только революция. Поэтому революция и желательна, и необходима, а значит, по мнению Зизека, она - единственное подлинное событие. Радикально имманентная интерпретация понятия революции, однако, ответила бы, что и кровавые демонстрации на улицах, и реализация далекой персонифицированной справедливости - в той мере, в какой они вообще имеют место, - на самом деле являются лишь маргинальными выражениями многих других реальной, лежащей в основе революции. Вместо этого революция - это всегда длительный процесс, именно пошаговый, но в то же время нелинейный пересмотр, который начинается с революционного изменения материальных условий (например, появления Интернета как проявления Синтеоса), за которым следует революционное изменение социальных практик (высокотехнологичная культура участия Синтеза), за которыми, в свою очередь, следует революционное изменение интерсубъективной метафизики (вычитание, монастизация и психоделические практики синтетизма), что только впоследствии может привести к долгожданному социальному событию (синтетическая утопия, завершение синтетической пирамиды), где структура власти, надеемся, может быть скорректирована, более или менее радикально, чтобы высвободить творческий потенциал новой парадигмы.
Герой Бадиуса и Зизека Гегель первым бы раскритиковал их кровавые мечты о мальчишеской комнате как типичные примеры поверхностного интернарциссизма. Для Гегеля история - это всего лишь длинная метаистория постоянных переписываний истории, где навязчивое нарративное производство - это постоянно терпящая неудачу, но тем не менее необходимая адаптация к неконтролируемому имманентному потоку. Поэтому революция и событие должны быть отделены друг от друга. Революция происходит тайно, и ее радикальность может быть приписана ей лишь задним числом. Событие же обретает свои драматические и преобразующие последствия лишь спустя долгое время. В качестве примера можно привести изобретение Иоганном Гутенбергом печатного станка около 1450 года. Но Французская революция началась только в 1789 году. Таким образом, между имманентной и трансцендентной революциями в данном случае пропасть в 339 лет. И то, на какой из них мы построим свою метафизику, к сожалению, имеет решающее значение для того, куда мы придем впоследствии.
Настоящая революция, конечно, начинается с появления печатного станка и продолжается до 1789 года и даже после него, когда она внезапно выражается в виде события кровавых восстаний, которые лишь позже получают название Французской революции. Пока все это происходило на самом деле, никто из действующих лиц не знал, что участвует во Французской революции; мифология, о которой идет речь, была создана и спроецирована на события только потом, не в последнюю очередь русскими революционерами, которым нужно было событие в прошлом, чтобы отразить себя в нем и из которого они могли бы извлечь и великолепие, и легитимность, именно так, как, по утверждению Гегеля, всегда и происходит. С точки зрения истории идей, выбор здесь стоит между приоритетом имманентной революции 1450-1789 годов - скажем, с акцентом на информационно-технологическое написание истории - и эффектным событием 1789 года, которое лишь затем реифицируется в трансцендентное событие в рамках капиталистическо-индустриального дискурса с целью превратить его в метафизическое вдохновение, а не в имманентное, нарративное событие. Таким образом, речь идет о культе мистицизма, от которого неохотно отказываются старые революционные романтики, такие как Бадью и Зизек, а также постмодернистские французские националисты.
Во всяком случае, важно то, что парижские уличные беспорядки были бы немыслимы без печатного станка, который стал полностью и широко распространен в обществе лишь спустя несколько трансформирующихся столетий. Он до неузнаваемости изменил сначала Европу, а затем и весь остальной мир, и географическое местопребывание Французской революции связано не столько с тем, что Франция стала первой страной, где большинство населения умело читать и писать, сколько с тем, что они были необычайно новаторскими или ясно мыслящими. Бадью и Зизек считают, что сначала нужно позволить сингулярности произойти, затем подождать, пока она породит новую структуру власти, а затем дождаться кровавого конфликта внутри новой структуры власти - где тучные и физически худые философы действительно обещают сами идти на баррикады и забрасывать власти коктейлями Молотова - только после этого можно будет говорить о подлинной революции. Гегель, скорее всего, не согласился бы с такой статичной и зависящей от культуры идеей революции. Вряд ли предполагал, что Париж