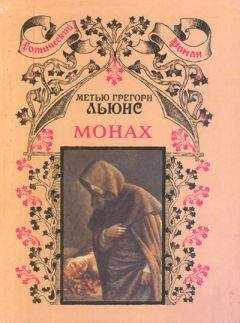Амброзио в этом совершенно не виновен. Увы, ей не поверили. Пока она говорила, аббат очнулся и услышал ее признание; но он был слишком ослаблен первой порцией пыток, и новых мог не вынести. Его отправили обратно в камеру, предварительно уведомив, что, когда он немного оправится, его ожидает второй допрос. Инквизиторы надеялись, что тогда он будет не столь упрям и устойчив.
Матильде же сразу объявили, что во искупление своих грехов она должна будет взойти на костер во время ближайшего аутодафе. Слезы и мольбы не смягчили судей, и ее силой утащили из зала.
Лежа в своей темнице, Амброзио жестоко страдал: у него были вывихнуты суставы, выдернуты ногти на руках и ногах, пальцы сплющены и сломаны тисками. Но эта боль оказалась гораздо более терпима, чем муки разума и треволнения души. Он понимал, что, независимо от того, признается он или нет, его все равно осудят. Вспоминая о том, чего ему уже стоило запирательство, он с ужасом думал о повторении и почти решился сознаться, но мысль о последствиях вновь и вновь поражала его, и решимость угасала. Он слышал приговор, вынесенный Матильде, и не сомневался, что с ним поступят так же. Как страшно было думать, что, погибнув в пламени, он избавится от кратковременной боли, но будет ввергнут в мучения более изощренные – и вечные!
Он не мог скрыть от себя, что у него есть основательные причины страшиться отмщения Господа. Заплутав в лабиринте страхов, тщетно пытался он найти прибежище во мраке атеизма; тщетно отрицал бессмертие души, твердя, что, закрыв однажды глаза, больше никогда их не откроет, и душа его исчезнет вместе с телом. Глубоко уверовать в это ему не удавалось: уж слишком он был учен, знания его слишком прочны, суждения выверенны. Он не мог не ощущать божественного присутствия и прежде, а теперь эта неоспоримая истина виделась ему в ярчайшем свете, но более не доставляла утешения, а только доводила до безумия, разбивая слабо обоснованные надежды на избавление от кары; под ее воздействием обманчивые пары философии развеялись, как сон.
С неослабевающей тревогой ждал монах, когда его снова допросят. Он придумывал разные нереальные способы избавления от казни как на этом, так и на том свете. Разум заставлял его признать существование Бога, а Совесть отрицала бесконечность божественной доброты. Ведь он видел порок в его истинном обличье. Еще только собираясь совершить свои преступления, он взвесил их до последней частицы и все-таки не отказался от них!
Убежденный, что прощения ему не будет, он не каялся, не оплакивал свои грехи, не пользовался немногими оставшимися часами, чтобы смягчить гнев небес; вместо этого он впал в буйную ярость. Он сокрушался об ожидающем его наказании, а не о своих злодеяниях; он выражал свой страх напрасными жалобами и богохульствами.
По мере того как немногие лучи дневного света, проникавшие в оконце тюрьмы, угасали и сменялись бледным, мерцающим светом лампы, страхи Амброзио усугублялись, а мысли становились все мрачнее, все горше. Он боялся приближения сна. Стоило ему закрыть глаза, утомленные слезами и бдением, как он словно попадал внутрь тех жутких видений, которые будоражили его мозг днем. Он оказывался в сернистых долинах, в пылающих пещерах, где его поджидали демоны, назначенные мучить его и подвергавшие его пыткам одна страшнее другой. В промежутках ему являлись призраки Эльвиры и ее дочери. Они упрекали его в своей смерти, сообщали о его злодействах демонам и призывали их еще крепче взяться за него.
От таких снов он просыпался весь в холодном поту и вскакивал, дико озираясь. Пробуждение лишь заменяло ужасную определенность на столь же невыносимые предположения. И часто восклицал он: «О! Как страшна ночь для виновного!»
День второго допроса приближался. Амброзио принудили пить снадобья, которые должны были восстановить его телесные силы, чтобы он мог продержаться подольше. Ночью накануне этого дня он не смог заснуть совсем. Страх его был настолько силен, что лишил его способности думать, низвел его почти до идиотизма. Он просидел несколько часов в оцепенении у стола, на котором тускло горела лампа, не в силах ни говорить, ни шевелиться.
– Амброзио, погляди на меня! – вдруг произнес знакомый голос.
Монах вздрогнул и поднял голову. Перед ним стояла Матильда. Она сменила рясу на платье, и элегантное, и роскошное, сплошь усыпанное блестками бриллиантов; волосы ее придерживал венчик из роз. В правой руке она держала книжку; лицо ее выражало живейшее удовольствие, но оно сочеталось с властным, необузданным величием, и это испугало монаха и умерило его восторги.
– Ты здесь, Матильда? – воскликнул он наконец. – Как тебе удалось войти? Кто снял с тебя цепи? Что означают это великолепие и радость, блистающая в твоих глазах? Твои судьи сжалились? У меня появился шанс на спасение? Ответь мне, будь добра, и скажи, на что мне надеяться, чего страшиться?
– Амброзио! – ответила она с видом властного достоинства. – Я презрела ярость инквизиции. Я свободна! Пара мгновений – и я окажусь за тридевять земель от этой темницы; правда, свобода далась мне дорогой, ужасной ценой! Рискнешь ли и ты, Амброзио? Осмелишься ли переступить границу, отделяющую людей от ангелов? Ты молчишь… Я читаю твои мысли и признаю, что твои догадки верны.
Да, Амброзио, я отдала все за жизнь и свободу! Я отреклась от служения Богу и стала под знамена его врагов. Возврата нет; но если бы и можно было воротиться, я не захотела бы. О! Мой друг, как смириться с такой смертью! Слышать проклятия и брань! Сносить оскорбления разъяренной толпы! Терпеть бремя боли, позора и бесчестия! Кто может без ужаса подумать о такой судьбе? Потому я не сожалею о сделке. Я отдала далекое и неверное счастье в обмен на близкое и надежное. Я сохранила жизнь, да еще обрела возможность украсить ее всеми видами наслаждений! Духи ада повинуются мне как своей государыне; с их помощью я проведу жизнь, пользуясь утонченной роскошью и предаваясь сладострастию, ублажая все природные чувства; всякую страсть отведаю я до пресыщения, а потом велю своим слугам изобрести новые удовольствия, чтобы потешить мои разыгравшиеся аппетиты! Я жажду скорее прибыть в свои новые владения. Ничто не заставило бы меня замешкаться в этом мерзком месте хоть на минуту, но я хочу еще убедить тебя последовать за мной. Амброзио, я по-прежнему люблю тебя; из-за общей вины, общей опасности ты стал мне еще дороже, и я хочу спасти тебя. Отринь же решительно предрассудки тупых людишек; оставь Бога, который оставил тебя, и поднимись до уровня высших существ!
Она умолкла в ожидании