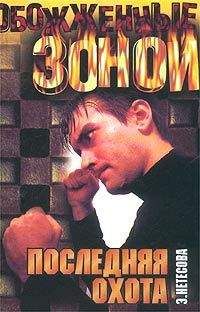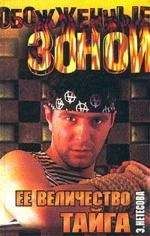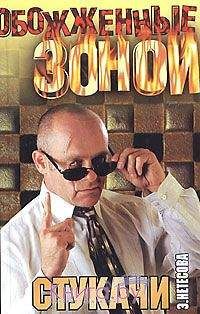— И как он тебя понял? — рванули смехом фартовые.
— Все на жестах, как немые. Но враз допер, паскуда! Меня боком обходил. Ссал — кормой разворачивался.
— Видать, он на тебя донос настрочил за плохое обращение с фраером, и ты в ходку влетел?
— Хрен в зубы. Не за него меня замели. Я в Кёнигсберге влип. На старухе! Тряхнул ее, старую плесень. Рыжуху у ней взял. Она, стерва, на меня командиру наляскала. Мол, трамбовал, грабил ее. Меня — за мародерство! Вроде я лизаться с нею должен был! Война есть война. В ней ни без смертей, ни без трофеев не бывает. А у меня все через жопу. Дышу — значит, живой. А трофеи все забрали. Отняли. Подчистую! И фрицам раздали. Да еще с извинением. Мать их в суку, этих командиров! Ничего, кроме ходки, у меня не осталось от той войны! — зло сплюнул Рябой.
— Дурак! Зачем тебе война нужна была? Отсиделся бы тихо! Пофартовал бы в оккупации. Хоть не обидно было б, — заметил Шмель.
— Я со всеми. Из тюряги попросился. На войну. Сам. Вся «малина». Было больше полусотни законников. А в живых лишь шестеро остались. Вместе со мной. Но и тех отправили сроки до конца отбыть. Кого куда. По разным зонам. Они пытались напомнить про обещание — дать волю после победы. А их надули. Околпачили, как ванек. Кому теперь верить? Никому. Свободными стали погибшие. Но велика ли радость от того?
— А за войну хоть одну медаль дали? — полюбопытствовал Линза.
— За отвагу. Выше этой нашему фартовому нельзя было давать. Да и ту забрали. Конфисковали вместе с портсигаром, где я ее берег.
— Плюнь!
— Заткнись! Ты повоюй, получи ее, а потом трехай, нужна иль нет. Я ее не с земли поднял, не отнял. Ну и пусть фартовый! Ведь сами наградили. Значит, заслужил. Так хоть бы не отнимали, сволочи!
— Да что б ты с ней делал? Кентов смешил? По бухой надевал похвалиться? Иль в дело, для удачи?
— Тебя, мудака, не спросил. Берег бы. Всю жизнь. Что и меня когда-то за человека посчитали. Значит, нужен был. Да только до твоей гнилой тыквы это не дойдет. Невоевавшему — не усечь…
— А толку? Со мною ходку тянешь.
— Тяну. Зато четыре года не в тюряге сдыхал. Как все фартовые — на воле. Не тырился по хазам. Воевал.
— А за кого?
— За себя! За всех законников! Чтоб ни одна вошь не лязгала, что отсиделся я за чьею-то спиной.
— Тебя, верняк, первого амнистируют, — подал голос Линза.
— Не мой это кайф! Мародерская статья приравнена к политическим. Так что навару не жду для себя. Давно в треп не верю. Те, кто уши развесил на обещания, все в земле лежат. Недаром говорят, что вор не должен на обещанки полагаться. А свой куш у судьбы обязан отнимать.
— А что, если завтра об амнистии объявят? — прогнусавил кто-то. И добавил: — Мы ж фуфловники!
— Нас даже Сталин обманул. Ему мы верили. Теперь — кранты. Завязал с фраерами! — ответил Рябой и больше не вступал в разговор. Наверное, уснул.
Старший охраны ворочался с боку на бок. Скажи ему Рябой — не поверил бы. Но знал: друг другу фартовые не врут. Это у них — западло.
Заснул под утро. Но и во сне выскакивал из горящего танка в окоп. А усмехающийся Шмель сыпал и сыпал землю на его голову совковой лопатой, приговаривая:
— Приморился, хмырь! Шкуру свою сберег, падла! А на кой хрен она тебе?
Старший охраны проснулся в холодном поту. Ему нечем было дышать, прихватило сердце. А рядом ни души, ни голоса, ни звука.
«То ли проспал, то ли слишком рано проснулся», — замелькали в голове мысли. Хотел позвать кого-нибудь из ребят-ох- ранников, но не получилось. Стало страшно. Всю жизнь боялся смерти. Потому молчал! А теперь хотел заговорить и не может. Нелепо. Он схватился за полог палатки и сделал попытку подтянуться.
— Что с вами? — склонилось к нему лицо Ванюшки.
И, поняв без слов, принес воды, напоил, помог отдышаться, осилить боль.
— Кричали вы сегодня во сне. Ругали кого-то. То Василь Василича, то еще кого-то звали. Прощения просили. А
все память, нервы, война…
— Где люди? Условники? — сконфуженно прервал старший.
— В тайге. Работают. Тут только я и Митрич.
Нахмурился старший охраны. И подошел к костру погреться, попить чаю.
— Мужики нынче амнистию ждут. Говорят, без нее не можно. Авось и мне облегчение выйдет, — улыбаясь подошел старик.
— Дай Бог! — пожелал старший охраны. И невольно оглянулся. К палаткам подъехала машина из Трудового.
— Выгружайтесь! — выскочив из кабины, скомандовал Ефремов.
Из кузова выскакивали люди. Изможденные, бледные, они еле держались на ногах. Иные хватались за кузов машины, другие тут же садились на землю. Троих охранники вытащили, помогли.
— Принимай, Лавров, пополнение, — обратился Ефремов к старшему охраны.
— Да что я с ними делать стану? Их живьем можно закапывать! — вырвалось у старшего охраны.
Люди даже не отреагировали, голов не повернули, не обращали внимания на окружающих.
Ефремов подошел, досадливо морщась, сел рядом, заговорил:
— Их мне вчера привезли ночным поездом. В сопровождении санитаров. Все политические. Сроки — сумасшедшие. Все как один в одиночных камерах по многу лет отсидели. Конечно, не без трамбовок, не без мук. Как это бывает! Ну а теперь — Сталин умер. Кому охота за этих отвечать? Они не мужики, все ученые, интеллигенты. Случись что, на вчерашнее не спишешь. За каждого собственной башкой и шкурой ответить придется. Вот и кинули ко мне, как в санаторий, до той поры, покуда разберутся с ними. В тюрьме условия не создашь. А к нам их подкинули не случайно. Значит, точно на волю они пойдут. Прокурор утром звонил. Голос дрожал: мол, сбереги, удержи в жизни всех! Видишь, они все отняли, а я — удержи! Кудесник, что ли, я? Так вот, единственная надежда у меня на тебя. Тут и воздух почище, и поспокойнее. А продуктов для этих задохликов велели не жалеть. Так я сегодня пару машин сюда пригоню с харчами. Пусть недели две оклемаются, а там — посильную работу поручать станешь.
— А чего в Трудовом не оставили их? — спросил старший охраны.
— Чтоб не устраивать наглядной агитации. Сам же видишь, до чего их довели.
— Им врач нужен…
— Их врач — покой и свобода. Первое — есть, второго, думаю, недолго ждать осталось.
Митрич, подслушавший краем уха часть разговора, уже развел второй костер, примостил треногу, подвесил котел и чайник для новеньких.
Охрана ставила палатки, обкладывала их хвоей, бережно обходя людей. Те сидели, стояли, лежали, безучастные ко всему.
Давно ушла машина в Трудовое. Митрич вместе с охранниками по одному подвели людей к костру. Усадили, накормили. Иных с ложки, уговаривая, убеждая. Лишь один не стал есть. С ним внезапная истерика случилась. Он кричал, плакал, ругал и проклинал умершего вождя, бывших своих друзей, вчерашний и сегодняшний день, до которого повезло дожить.
Его едва удалось накормить. Человек после обеда вскоре уснул. Не только он. Люди легли вповалку. Молча. Лишь самый длинный и худой, как жердь, остался у костра.
Он смотрел в огонь тихо, задумчиво. Глаза словно пеплом подернутые. Не видел, не слышал, не замечал никого.
Отобедавшие сучьи дети и фартовые ушли на работу в тайгу. А человек все сидел в одной позе: не шевелясь, не двигаясь.
— Попил бы чайку, мил человек, — предложил ему Митрич, подавая кружку с чаем. Но тот не увидел, не услышал. И старик слегка тронул за плечо новенького: — Испей чайку. Согрей душу. Ить помереть можно, ежли столько переживать. Все образуется, утрясется. Ты ж почти на воле нынче. Согрей душу, милай. Ее беречь надо от лиха.
Мужчина перевел взгляд на Митрича.
— Зачем? — спросил новенький сухо, коротко.
— Чтоб жить. Ить недолго судьбой отведена эта радость каждому.
— Радость? Шутить изволите? — Тот отмахнулся и снова в огонь уставился.
— Вот ты политический, небось в политике соображаешь? А я? Я ж вот, что свинья в ананасах, ни хрена не понимаю. А посадили по политике. Вовсе старого. С печки взяли. Сколь годов отмаялся. А живой. Не стравил душу злом да обидой. Може, врагов, супостатов своих перевекую. Ежли Бог даст. И вживе ворочусь. В семью, в деревню, в свою избу. Хозяином, человеком. Не дам горю убить себя. Потому как мужик я! Любого лиха сильней быть должный. Живучестью, милостью Господа подаренной, супостатов своих накажу. Тебе пережить беду тяжко? А мне легко? Неграмотного ославили политическим. У меня от того на печке все сверчки со смеху, поди, издохли. А я — ништяк. Потому что — мужик, в кулаке себя держать должный. Не расплываться киселем, то бабье, их удел — в слезах тонуть, — убеждал Митрич.
— А если жить не для чего стало, если весь смысл ее потерян, нет веры никому? Нет цели — отнята! Как жить ajz
тогда? — спросил человек, понемногу вслушиваясь в слова Митрича.
— Даже я, вовсе дряхлый, жить хочу. Смысл, говоришь? А одюжить лихо, стать над им и уметь ждать завтре? Оно завсегда светлей. Цели нет? А семья, дети?