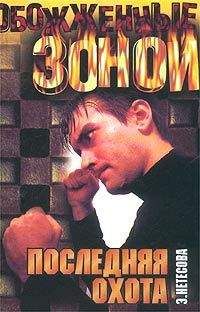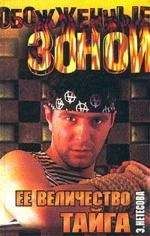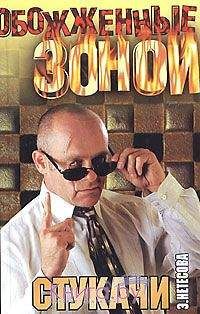— Нет их больше, — выдохнул человек.
— Будут! Бог не без милости! Найдется и тебе утеха! Не рви душу, она нужна! Не гневи сердце — ему еще жить! Нешто ты слабей меня, замшелого, что в руках себя удержать не можешь? Да твои супостаты небось обрадовались бы, узнай о твоей кончине. А ты не дари им отрады! Довольно настрадался. Нынче об жизни пекись!
— Добрый вы человек! Много тепла в сердце имеете. Побольше бы таких земля рожала. Спасибо вам за доброе! — оттаивало понемногу сердце новичка.
— Я не добрый, я — правильный! Меня даже ворюги боятся! — расхрабрился Митрич. И, сунув кружку чая в руки человеку, уже не предложил, а приказал: — Пей!
Старший охраны, молча наблюдавший, в душе не раз похвалил настойчивость и дедовскую убедительность Митрича. Самому всегда недоставало этих качеств. Не хватало терпения и тепла. Хотя одного без другого не бывает…
Новенький пил чай, вполголоса разговаривая с дедом. Каждое их слово слышал старший охраны, понимал и сочувствовал. Но… Как всегда — молча. Потому что иного не позволяла должность.
Новичок и впрямь был не из рядовых. И угодил в зону с большой должности военного начальника. Освобождал концлагерь в Германии и взбунтовался против отправки освобожденных пленных в зоны и лагеря. Даже до вождя дошел. Свое мнение высказал. Едва вышел из кабинета, его и взяли. Под бок к тем, кого защищал. А он и там не успокоился. Кричал о жестокости, лжи, извращенном понимании законов войны, неумении, неспособности руководить страной и людьми.
Большой был авторитет у человека. Его слушали. Поддерживали. Даже администрация зоны. Но и здесь на него нашлась управа. Взяли из зоны. Затолкали в одиночку на годы, отдавали на издевательства блатной шпане, охране.
Долго не могли сломать. Не поддавался. Пытались втоптать в грязь. Пускали о нем невероятные грязные слухи. Но даже они не прилипали. Им не верил никто, кто видел или слышал о нем однажды. А когда силы сдали и он свалился в камере беспомощным, его подняли ночью. Ничего не объясняя, не говоря, вывели во двор тюрьмы. Он думал, что этот день — последний в его жизни- Ночами выводили только на расстрел. Звуки выстрелов не раз слышал в камере. Все понимал. Знал: когда-то придет и его час…
В себя он пришел уже в поезде; увозившем его вместе с другими в Трудовое. Об этом сказал охранник. Он же сообщил о смерти Сталина. Сказал, что со вчерашнего дня по всем тюрьмам, зонам, лагерям отменены все расстрелы до результатов рассмотрений и решений особых комиссий.
Для себя он не ждал облегчения участи. Устал верить, надеяться, доказывать свою невиновность и правоту. Устал отстаивать жизнь, которая успела порядком измотать и надоесть. Он понимал, что вернуть прошлое невозможно. Да и возраст не тот, чтобы верить в чудо. Но когда охранник сказал, что его, как и других, везут к условникам, посчитал: разыгрывают! Когда оказался в Трудовом, подумал, что именно здесь, на непосильных работах, его решили окончательно доконать…
Он не знал никого из тех, кто вместе с ним приехал сюда. Они не говорили в пути. Общение — не всегда облегчение, оно стало страданием, бедой всех и каждого. И люди, натерпевшись, стали замкнутыми, недоверчивыми.
Молчал и он. Всю дорогу. Весь путь, который считал последним в жизни.
— Жив будешь, дружочек. Нихто тебя пальцем не тронет. Тут бедолаги, такие, как я, маются. И тебе ровня имеется. Генерал и подполковник. Военные. Ну енти, доложу, мужики! Крепкие орешки! Железные. И снутри, и снаружи. В Трофимыче осколков с ведро сидит. В ногах. А он ходит. Илларион — контуженый. Но ништяк! Вкалывают здорово. И духом крепки. Лиху не сдались. Лиходеям не поддались. И все у них в порядке. Как на войне. И ты выправишься о бок с нами. Главное, душу согреть, остатнее — само оттает.
— Это уж как повезет…
— Ha-ко вот черемши с тушенкой пожуй. Вкусно! И пользительно! Требуху оживишь. Она на витамины враз откликнется. Жрать запросит. Ты ей и давай. От харчей силы появятся, здоровье. Оно тебе надобно нынче. Заставь себя жить. Помереть всегда поспеем. Это от нас не сбегит…
Новенький хрустел черемшой, заедал ее тушенкой, хлебом. А Митрич все подкладывал таежную пахучую зелень, расхваливал ее на все лады.
Вдвоем у костра и веселей, и теплей. Старику, может, от того было зябко, что не о ком было ему заботиться, не с кем поговорить, некого уговорить, убедить, пожалеть.
Никто из условников давно не нуждался в его заботах. Самого вот жалели. А потому не брали в тайгу. Оставляли по- стариковски управляться. С костром, едой. Бесхитростны эти заботы, но не отрывать же на них сильных, крепких мужиков. Вот и предложили фартовые определить Митрича кашеваром, а вместо него остальным в тайге вкалывать. Зачем старому маяться в лесу? У палаток ему пусть не легче, но сподручнее. Да и еда у него получалась вкусней, чем у других. Успевал старик в палатках порядок навести, принести воды, подмести вокруг, а иногда чью-то рубаху постирать.
Ему за это не забывали сказать спасибо даже фартовые. А много ль старому надо? Не обижают. Не перетрудился. Не голодает. Живой, здоровый, и слава- Богу.
Но сегодня у него праздник. Есть собеседник. Грамотный, культурный, душевный человек. И уважительный, послушный. К деду с почтением, от какого Митрич совсем отвык по зонам.
Другие спят. Вовсе ослабли люди. Даже на другой бок не поворачивались. А худые, чуть ли не просвечиваются. Но старший охраны не велел будить. Мол, пусть выспятся. Тогда и накормим.
Чудной, будто не знает, что крепкий сон лишь на сытое пузо бывает.
Митрич первым узнал имя новенького — Андрей Кондрать- евич. Ему немногим за пятьдесят перевалило. Коренной москвич. Был женат. Были дети — двое взрослых сыновей. Все было. Ничего не стало. Отказалась от него семья. Получил от них письмо, когда в одиночной камере сидел. Там это письмо ему отдали. Он сразу узнал почерк старшего сына. Сердце дрогнуло: нет обратного адреса. Значит, простились с ним. Поспешили.
«Ты испортил нам все будущее, всю жизнь. Добиваясь правды для изменников Родины, предателей, дезертиров и полицаев, не подумал о своей семье, о нас и матери. Нам невозможно жить в Москве. Все знакомые, друзья отвернулись. Делают вид, что не знают нас. Мать уволили из института как жену врага народа. И она уже не смогла заниматься научной работой. Разносила почту. Целый год. Пока не сжалились над нею бывшие сослуживцы и ее взяли в институт лаборанткой. А все — ты! Все, что связано с твоим именем, приносит несчастье. Нам стыдно называть тебя своим отцом. Мы изменили фамилию и взяли материнскую — девичью. Только после этого я смог продолжить учебу в академии, а Петр — в институте. Мы едва справились со случившимся. Мать едва выжила от нервного потрясения и совсем изменилась. Она не хочет больше видеть и вспоминать тебя. Ты всегда был эгоистом и не считался ни с кем. Ты считал, что вокруг — недочеловеки, а ты — исключительная личность. Живи в своем заблуждении и забудь нас. Останься хоть раз мужчиной и не тревожь нас своими письмами. Поверь, их уже никто не ждет. Ты ничего не принес в семью, кроме несчастья. И позора… Нам от этого теперь очищаться до конца жизни. Возможно, так и не очистим имя свое. Мы отказываемся от тебя. Как от отца и человека. Навсегда. Перед всеми. Прощай».
Андрей Кондратьевич до конца прочел это письмо. Почему-то, словно вопреки написанному, память вернула его в довоенное время на подмосковную дачу. Там, вместе с сыновьями, он часто уходил на вечерний клев. Мальчишки не пропускали ни одного дня и превратились в заядлых рыбаков.
Ни комары, ни мать не могли их вернуть домой. До самой темноты неподвижно сидели с удочками на берегу реки. Их радовала возможность принести в дом добытое своими руками.
Случались удачные дни. И тогда, гордо выложив общий улов в таз, мальчишки помогали матери чистить рыбу, наперебой рассказывали, как удалось поймать каждую.
Дачный сезон всегда был коротким для него. Случалось, его отзывали. А дети с женой жили на даче до конца лета. Они вообще росли под ее контролем. Она помогала им в учебе. Ему всегда не хватало времени.
И в тот день… Его разбудил телефонный звонок. Война. На сборы дали всего один час. Мальчишек не стал будить. Рано. Поцеловал не успевшую понять и испугаться жену, сел в машину, подкатившую к даче. И уехал. На долгие четыре года. Тогда сыновья ждали его. Может, потому вернулся живым.
Мальчишки успели возмужать. Выросли. Уже сделали свой выбор в жизни. Постарела, поседела жена. Она за войну стала суровой, разучилась радоваться, смеяться. Может, война отняла все тепло, заморозила сердце? Оттого, когда арестовали его, ни разу не просила свидания с ним. Ни одной передачи не прислала, ни одного письма.
Из хрупкой девчонки-хохотушки превратилась в замкнутую, скрытную женщину. Она никогда ни с кем не делилась своим мнением. И жила обособленно даже в своей семье. Она словно чувствовала, что Андрея арестуют, и заранее обдумывала будущее, свое и сыновей.