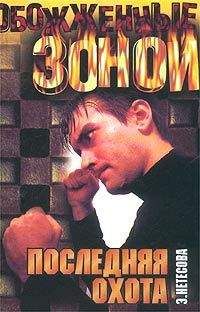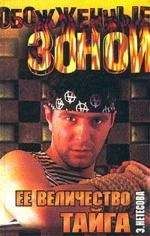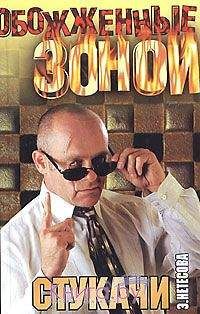Андрей Кондратьевич хранил последнее письмо сына. Он знал его наизусть. Помнил каждую'закорючку. Нет, не обижался на мальчишку. Не ругал. Не упрекал его. И, помня просьбу, за все годы не написал ни одного письма домой.
Он никого ни в чем не обвинил. Он все обдумал, пережил в одиночку свое горе. Как солдат — смерть: Она у каждого своя. И никогда не станет легче от чужого участия и сожаления.
В отличие от сына он не выбросил из памяти и сердца свою семью. Их он каждого любил и помнил прежними. Самыми родными и близкими людьми. Считая, что на обиду не имеет права. Как солдат, проигравший сражение. Куда вернется он после заключения? Придет ли домой, захочет ли увидеть семью? Наперед не загадывал. Жизнь покажет. Выжить бы. Это не всякому удавалось.
…Новички проспали весь день и всю ночь. Их никто не будил, не беспокоил. Даже фартовые, пожалев отощавших фраеров, разговаривали шепотом. Стараясь не вспугнуть, не оборвать, не помешать спящим.
Утром, когда бригады ушли в тайгу на работу, новенькие по одному вылезали из палатки. Оглядывались по сторонам. Шли к ручью умыться. Потом — к костру, погреться у тепла.
Митрич кормил их завтраком. Не жалея, щедро. Заранее приготовил. Ефремов не подвел. Две машины продуктов прислал из Трудового, таких, которых никогда не видели и не получали прежде. Даже какао сварил. Гречневую кашу щедро сдобрил сливочным маслом и тушенкой. Сам старик не ел. Только на вкус попробовал. Не пересолил ли? И головой крутнул, зажмурился:
— Вкуснотища какая! Да на такой жратве, конечно, начальником исделаешься. Каша сама в пузо прется. Не то что у нас — картоха сушеная да перловка. От их кишки дрыком стоят, в обрат плюются, хочь колом глотку с жопой затыкай, не хотят ту жратву принять! Потому не выбились мы в люди. Так и застряли в говне, — сетовал Митрич.
Новенькие ели вяло. Неохотно. Иные и половину не одолели того, что Митрич положил в миски.
Старик, увидев такое, возмутился:
— С ума съехали! Такое не едят, дохляки замшелые! А у нас свиней нет за вами подбирать! Выбрасывать такое — не подумаю. С катушек не съехал покуда! А ну! Живо добирайте ёдово! Не то силой впихну!
Но люди словно не слышали. Выпив какао, брели к палаткам. И валились с ног как подкошенные.
Но вот один еле успел наружу выползти. Рвота одолела. Все обратно вышло. С кровью, больно. Казалось, с кишками вырвет. Он хватался за живот, сгибался калачом. Бледнел. Лицо заливал пот.
— Чего это с тобой творится? — удивился Митрич.
Тот хотел ответить, но не смог. Захлебнулся рвотой. Митрич дал ему чаю. Заварил чагу. Новенький лежал у палатки, боясь пошевелиться. Андрей Кондратьевич подошел к нему, поднял рубаху. Лицо посерело. Он сказал Митричу на ухо:
— Отбили ему желудок. Теперь долго будет мучиться.
Старик растерянно развел руками. Рассказал об этом человеке вернувшимся с работы сучьим детям.
— Генка! Ты — сын лесника. Все знаешь про болячки. Помоги! — попросил Трофимыч.
На следующий день тому повезло. Нашел в тайге девясил. Выкопав корень, принес Митричу, сказал, что надо сделать.
Старик обмыл корень, почистил и, заварив кипятком, дал настояться. А вечером заставил мужика проглотить половину стакана настоя, через час поесть уговорил. И — диво, рвоты не было.
Не легче пришлось и с другими. Понос открылся. Да такой, что из кустов не вылезали. Дед чаем поил, крахмалом. И понял: нельзя перегружать едою новичков. Отвыкли они от нее. Совсем не зря и неспроста их сюда привезли. Не отдыхать, а выжить.
Сердцем поняли условники, что этим новичкам пришлось труднее. Им выпала на долю участь смертников. А в жизни удержана счастливая случайность.
— Мы сетовали на свою судьбу. Но эти были в страшных переделках. При вожде никто б из них не выжил. Не для наказания их взяли, — догадался Трофимыч.
А поздним вечером у одного из новеньких случился сердечный приступ. До глубокой ночи мучился человек. Ему на грудь клали влажные тряпки, растирали, массировали, но не помогло. Умер к утру. Тихо, не вскрикнул. Никого не разбудив, не испугав.
Коснувшись ненароком в темноте его холодной руки, поняли — отмучился. И вынесли наружу.
— Вот фраер, немного до амнистии не дотянул. Так и накрылся в условниках. Не дотерпел, — сжалился Шмель, глянув на покойного.
Он снял пидерку с головы и пожелал, чтоб на том свете тот никогда не попадал в руки мусоров.
Кем он был? Теперь уж безразлично. На воле — видимо, большим человеком. Вон зубы во рту из чистого золота. У простого работяги на такое не сыщется. А вор такой выставки испугался бы. Свои же прикончили б. Этот не боялся. Значит, честным был. Работал много. А зачем? Надорвал сердце. Влетел в тюрьму. Не сумел порадоваться относительной свободе. Так и похоронят в лесу, в глухомани. Без имени и почестей. Сколько уж таких могил по северам в глуши спряталось? От памяти, от родни, от упреков…
Остальные новички, словно испугавшись такой участи, старались быстрее поправиться, крепче встать на ноги. Они уже перезнакомились с бригадой сучьих детей и с фартовыми. Иные уже засиживались допоздна у костра. Слушали чьи-нибудь рассказы. О себе молчали.
Никто не докучал новеньким, не лез к ним в душу с вопросами. Знали — рано. Пусть затянется, зарубцуется память, чтоб не вышибало у рассказчика слезы из глаз. О своем говорили, далеком, отболевшем, дорогом.
Новенькие слушали вначале безучастно. А может, слушая, не слышали? Через это тоже надо суметь перешагнуть.
Их еще не брали на работу. Охрана не поднимала новичков по команде. Все ждали, когда они окрепнут, оживут.
Они уже научились одолевать щедрые порции завтраков и обедов. Охотно ужинали. Ходили, не падая. Не роняли ложки на землю. А иногда грелись на солнце, подставив весеннему теплу исхудалые плечи и спины.
Иные даже бриться стали. Умывались не только утром, а и по вечерам. И Митрич, глядя на них, говорил Лаврову:
— Оживают мухи, мужиками становятся. То-то радость заново народиться на свет! И я им в том подмог маленько.
Но однажды новички удивили всех. Случилось это под вечер, после ужина. Когда все занимали у костра место потеплее. И мужики, натянув поверх рубах что-то теплое, гнездились у огня.
Фартовые и сучьи уже заняли «галерку» и ждали новичков, им отводилось самое теплое место. Но те не спешили. Словно забыли о традиции. Из палатки доносился чей-то злой голос. Потом послышалась брань.
— О! Фраера хвосты подняли! Завтра на пахоту можно их запрягать! Ишь, гниды, гоношатся! — заметил Шмель не без усмешки.
И в ту же секунду из палатки новичков вылетел мужик. Его выбили ударом, с руганью, проклятиями, угрозами.
— Что стряслось? — подскочил удивленный Митрич.
— Ничего, отец! Паршивую овцу выкинули. Подонка! Доносчика. Из-за него, кретина, столько людей погибло! Оклеветал, чтоб самому выжить! У него даже план был на кляузы! Скольких заложить! Так он, скотина, перевыполнял его. Недобора никогда не имел! Но и на него капкан нашелся. Свой же, обкомовец Обосрал. Видно, до плана не хватало. А может, надоело добрым людям терпеть гада. Вот и отделались его же способом! — возмущался Андрей Кондратьевич.
— За свое он сполна получил. За все ответил. Полные карманы лиха имеет нынче. Образумился уж. Кой с него нынче спрос? — успокаивал людей Митрич.
— Э-э, нет! Нечего под нас краситься, подделываться под невинного. Наши руки ни в чьей крови не испачканы. Нас никто не проклинал. Никого за собой не потащили, не утопили ни одного. Сами свое отстрадали. Но не стали сволочами! И его^ рядом с собой не потерпим. Пусть куда хочет убирается!
Выброшенный мужик сидел у костра, до хруста стиснув кулаки. Лицо его красными пятнами взялось. Он оглядывался на Андрея Кондратьевича затравленно, зло.
— Слушай, фраер, твоя кодла тебя вышибла под сраку. А мы таких, как ты, гасим. Жмуров делаем. Усек? Хиляй отсюда, падла-вонючая! — схватил его за шиворот Шмель и, отбросив от костра в ночь, крикнул хрипло: — У нас с суками свой «закон — тайга»! Чтоб духу твоего тут не было, коль дышать хочешь! — погрозил в темноту волосатым кулаком.
— Вы это что тут самосуд устроили? — вышел из темноты Лавров. И позвал выброшенного в ночь мужика. Тот нерешительно стоял в тени, переминаясь с ноги на ногу. — Идите отдыхать в мою палатку. А с ними я сам разберусь. — Лавров подошел к костру. И, присев возле Митрича, заговорил зло: — Принципиальными все себя считаете? Чистенькими и несчастными?
— Никого не закладывали, под вышку не упекли! — ответил Шмель.
— А ты — заткнись! На твоих руках крови больше, чем у любого палача! Безвинных убивал корысти ради. Стариков и тех не щадил! Мародер! За что третью судимость схлопотал? Напомнить иль сам расколешься? В войну своих грабил. Под видом помощи партизанам. Сучий сын — не человек! Когда не давали, не поверив, убивал и уносил все. Это в твоем уголовном деле!