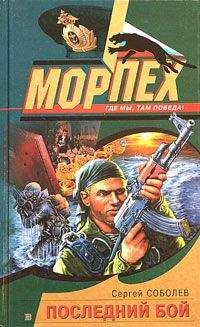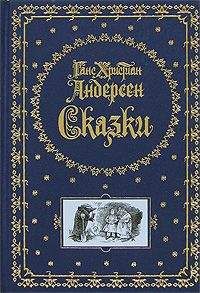— Бушмин, с какого времени вы взялись «крышевать» нефтянку? Вы и ваши коллеги из «четверки»?
— Не понял...
— Почему вас направили в Грозный вместе с нефтяниками?
— Не знаю... Приказ.
— Кто еще из руководства с вами? Кто, кроме вас и Шувалова, «разруливает» ситуацию вокруг «Ространснефти»? Может, сам Мерлон?
— Не понял...
— Вы должны говорить правду! Вы знаете, кто такой Мерлон! Это он вам с Шуваловым приказал вмешаться в конфликт вокруг «нефтянки»?
— Не понимаю...
В наступившей тишине, как показалось Бушмину, где-то неподалеку прозвучал мелодичный перезвон кремлевских курантов.
— Плохо, Бушмин, очень плохо, — сказало лицо, сидящее под портретом. — Высшее руководство вами в высшей степени недовольно! Вы пытаетесь сокрыть правду, а так у нас не принято делать!
— Очень плохо, — строго сказал «портрет». — Придется вас наказать, Кондор...
— Будем выносить ваше дело на суд «тройки», — сказало лицо в камуфляже. — Надеюсь, вы понимаете, чем это вам грозит?
— Вы понимаете, чем это вам грозит? — спросил «портрет», тут же «растроившись» на глазах у проштрафившегося агента.
— Да... Но сейчас ведь не тридцать седьмой?
— Верно. Поэтому мы не будем вас публично расстреливать. У нас демократия. Поэтому ликвидируем мы вас тихо, аккуратно, сработав под «несчастный случай»...
Глава 9
В этой жизни помереть не трудно
Мужчине, прикованному наручниками к батарее, очень хотелось пить. Никогда прежде, за все сорок лет жизни, он еще не испытывал такого мучительного чувства жажды. Но сильнее всего его мучила не жажда — в конце концов, он всего примерно сутки назад заглотнул полуторалитровый баллон минералки, а смешанное чувство бессилия и страха за свою драгоценную жизнь.
Его вот уже третьи сутки держали в полуподвальном помещении загородного коттеджа, расположенного километрах в шестидесяти от Москвы, на одном из ответвлений Новорижского шоссе, всего в десяти минутах езды до этой трассы. Он стал жертвой подлости, непорядочности, крутого кидалова. По всему получается, что вокруг него в последнее время отирались одни лишь «иуды». И вот результат — его сдали с потрохами.
Он думал, что за деньги можно купить все. Проплатив одному из главных «эсбистов» компании и регулярно доплачивая из собственного кармана ему поверх положенного по штату ежемесячного оклада, он надеялся, что тем самым заполучил еще одну страховку на случай какого-нибудь непредвиденного развития событий. А выяснилось, что он платил «иуде», «засланному казачку», тесно повязанному с «крышей» компании... со своим бывшим ведомством или, что вернее всего, с некоторыми бывшими и действующими сотрудниками Конторы.
Лучше бы он вообще не обращался ни к каким профи, а надеялся только на самого себя. Тогда бы он не допустил такой оплошности. Сидел бы уже за бугром, где у него имеются две фазенды: квартира в пригороде Лондона и особняк на Кипре. Даже если бы его задержали в среду, когда начались обыски в офисах компании, хотя все могло бы для него ограничиться беседой с «прокурорскими» и подпиской о невыезде, то и это не было бы для него полным крахом, поскольку он мог бы как минимум рассчитывать на помощь своих высокооплачиваемых адвокатов.
А так он имеет то, что имеет: человек, который должен был помочь ему выехать из страны, прежде чем его подадут в федеральный розыск, привез его сюда, в этот загородный коттедж, где они вроде бы должны были сменить транспорт, затем, угрожая оружием, заставил его спуститься в это полуподвальное помещение, имеющее лишь крохотное зарешеченное окошко под потолком, и уже здесь приковал его наручниками к батарее отопительной системы.
* * *
Мужчина, звякнув цепочкой от наручников, потянулся за пластиковой бутылкой. Подняв с пола, он перевернул ее горлышком вниз и попытался вытряхнуть на ладонь хоть бы несколько капель. Черта с два ему это удалось: поскольку он уже не раз пытался проделать такую операцию, то баллон из-под минералки был пуст, подобно пересохшему колодцу где-то в самом сердце раскаленной Сахары.
Он не раз и не два пытался пробовать на прочность трубу, к которой его приковали. Дергал за нее свободной левой рукой, пробовал наваливаться на нее всем своим дородным телом, но усилия его оказались тщетными.
Только запястье, на котором крепится браслет, себе натрудил, хотя и старался беречь руку, так что пришлось бинтовать мокрую кровоточащую ссадину разорванным на две полосы носовым платком.
Брюки на нем были мятые, жеваные, даром что новые, настоящего европейского качества, сшитые, кажется, в Милане. От водолазки, одетой под пиджак, разило потом так, словно он бомж, не мывшийся в бане еще со времен прихода Ельцина к власти. Пухлые, всегда налитые здоровьем щеки ввалились и как-то подозрительно быстро, как у покойника, стали обрастать сухой твердой щетиной.
Нужду он справлял в стоящее в пределах досягаемости обычное оцинкованное ведро.
Трое суток он не держал во рту и маковой росинки. Сутки назад ему принесли полуторалитровый баллон минеральной воды. С тех пор он сидит здесь один, никто к нему больше сюда, в подвал, не наведывался.
"Ну и влип же ты в дерьмо, Миша! — мрачно подумал он. — Кое-кто из твоих друзей и партнеров — гореть им в аду, этим иудиным детям! — сейчас пьют и жрут в три горла, радуясь, что так удачно кинули своих же корешей. Опиваются шампанским и заворачиваются в икру! А ты, дружок, как собака сидишь привязанным на цепи! Даже хуже распоследнего пса! Мудила ты долбаный, Михаил! И часа не прошло, как вылакал всю воду! Говорил же тебе когда-то папа: «Будь бережлив и экономен, сынок, а все остальное в жизни само приложится...»
Ну не пить же ему собственную мочу, в самом деле?
Он пнул ногой пустую пластиковую посудину и, содрогнувшись всем своим стодвадцатикилограммовым телом, зарыдал, давясь скупыми горькими слезами и подскуливая противным самому себе голосом...
Полная безысходность, усугубляемая изжелта-зеленоватым, как кожа покойника, освещением (над дверью, от которой его отделяет пятиметровое пространство, вполнакала горел дежурный светильник).
В какой-то момент до его слуха долетел приглушенный звук работающего автомобильного движка. Похоже, что в коттедж, где его держат на привязи, пожаловали какие-то люди.
Спустя минуту или две послышались чьи-то голоса; лязгнул дверной засов, в «камеру» вошли двое мужчин, один из которых содержащемуся здесь узнику был знаком, хотя он и являлся человеком совершенно иного круга.
— Лещенко?! — несколько удивленно, но и с отчетливо прозвучавшими в голосе радостными нотками произнес пленник. — Ну наконец-то... Петр... извините, запамятовал ваше отчество...
Гэбист, чуть склонив голову набок, посмотрел вначале на прикованного к трубе бизнера, затем, чуть поморщившись, на ведро, содержимое которого служило источником неприятного запашка.
— Мирон, вынеси «парашу»! — не оборачиваясь, сказал он. — Дверь оставь открытой, надо проветрить маленько помещение. На обратном пути захвати спецодежду... В гараже найдешь!
Миронов, натянув на руки пару резиновых перчаток, поднял ведро за дужку и направился с ним на выход.
— Здравствуйте, господин Литвинов, — почти приветливо произнес гэбист. — Извините, что так долго заставил вас ждать. Знаете ли, дел у меня сейчас невпроворот. Но вот и до вас очередь дошла.
— Нашли! Вы меня нашли?! — все еще не понимая, что вокруг него происходит, обрадованно произнес бизнесмен. — Ну, слава богу...
— Конечно, — почесав кончиком пальца переносицу, сказал Лещенко. — Мы любого найдем. Можно сказать, из-под земли достанем.
— Ну что же вы? — Бизнесмен бросил на него удивленный взгляд. — Снимите же с меня наконец эти наручники! Что, нечем отомкнуть? Ну так поковыряйте чем-нибудь в замке! Отмычкой или на худой конец гвоздем! Блин...
В помещение вернулся Миронов, уже успевший сменить свою утепленную кожанку на армейскую камуфлированную куртку.
— Минутку, господин Литвинов, — сказал Лещенко, передавая помощнику пальто и беря у него взамен такую же, как на нем, пятнистую куртку. — Добро, Мирон, неси теперь видеокамеру.
* * *
Лещенко, поменяв прикид на более соответствующий случаю и обстановке, вооружился видеокамерой.
— Литвинов, закрой на минутку свою поганую пасть! — скомандовал он и стал снимать на пленку прикованного наручниками к трубе «нефтяника».
Миронов тем временем надел маску с прорезями для рта и глаз и, вооружившись резиновой дубинкой, дожидался своего часа.
Литвинов, чье лицо, приняв мертвенно-бледный окрас, покрылось липкой испариной, на какое-то время, кажется, лишился дара речи.