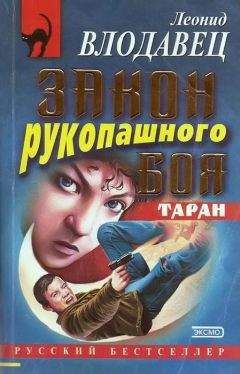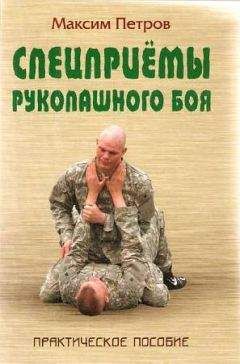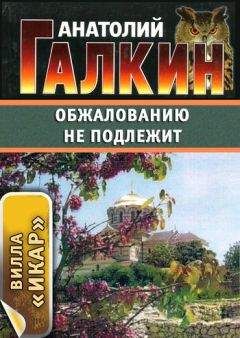— Ну, друг любезный, — сказал Клещ; выдергивая из руки Агапа свой кушак, — пора тебе дело делать. Вот стенка, видишь? Будешь ты ее, внучек милый, долбить, покудова не пробьешь, чтоб пройти можно было. Чаю, не шибко долгая работа. Парень ты не хлипкий, сила есть еще, а ума тут много не надо. Мог бы я и сам работу эту сделать, да надобно мне ненадолго отлучиться. А как пробьешь — садись и жди, покуда я не вернусь. Упаси тебя бог меня искать, даже если с фонарем пойдешь. Заплутаешь и загинешь, как фонарь погаснет. Тут, брат, кой-где колодцы в полу имеются — дна не сыщешь. Может, в самое пекло прорыты, так что сиди тут и жди.
Отойдя шагов на полсотни, Клещ услышал за спиной звук ударов киркой — Агап, справившись со страхом, взялся за работу.
Пройдя еще шагов двадцать, Клещ коснулся стены левой рукой, чуть скользнул ладонью по шероховатому кирпичу и нащупал угол; здесь надо было сворачивать. Теперь Клещ шел вдоль правой стены, про себя отсчитывая шаги. Еще поворот, и старик, вступив на лестницу, начал подниматься вверх. Лестница привела его к массивной, окованной железом двери. Остановившись перед ней и отдышавшись малость — лестница была длинная и крутая, — Клещ перекрестился и прошептал:
— Господи, благослови! — после чего трижды стукнул в дверь согнутым пальцем.
Гулко лязгнул под каменным сводом отпираемый замок, багровый отсвет, вырвавшись сквозь открывшийся проем, озарил лицо Клеща. Перед ним стояла темная, неясных очертаний фигура.
— Пришел? — спросила фигура низким грудным голосом.
— Пришел, матушка, — кивнул Клещ и, сняв шапку, переступил порог.
Клещ вошел в просторное полутемное помещение, освещенное лишь пляшущим ало-оранжевым пламенем, лизавшим свод огромной русской печи. В огромном глиняном горшке клокотало какое-то варево. Вдоль стен на веревках висели пучки трав, на грубо оструганных полках стояли крынки, склянки, мешочки. Пахло в помещении странной смесью лесных и полевых запахов.
Хозяйка заперла за Клещом дверь, указала ему на лавку:
— Садись. В ногах правды нет.
Клещ уселся. Чувствовал он себя почти так же, как Агап, когда попал в его, Клещево, логово.
— Значит, опять тебе, паскуднику, Марфа занадобилась, — произнесла баба сурово. Черный монашеский плат делал ее похожей на старуху, но, когда Марфа уселась на лавку рядом с Клещом и подвинула к себе кованый светец с запаленной лучиной, стало видно, что ей еще недалеко за сорок.
— Занадобилась, — кивнул Клещ, — здравием слабею, а оно мне ныне вот как нужно.
— Полюбовницу новую сыскал? — прищурилась Марфа. — Али еще мало грехов натворил?
— Не за тем, — мотнул головой Клещ, — мне здравие для иного надобно.
— Сказывай зачем, — строго велела Марфа.
Клещ глянул в строгие серые глаза, скользнул взглядом по чуть одутловатым щекам, по сурово сжатым губам, по шрамику на подбородке и произнес:
— А не скажу — так не поможешь?
— Тогда — вот бог, а вот — порог.
— Стало быть, придется тебе поклясться, что никому не поведаешь. Хоша и не было за тобой раньше болтовни, а все-таки баба ты.
— В баню тебя водила, так там ты клятв не спрашивал…
— То-то и говорю, что баба ты. Здесь, Марфа Петровна, дело не любовное, а военное.
— Ведомо мне, что ты умыслил, старый черт. Опасную шутку шутишь, лихой, опасную.
— А чего это ты знаешь? — удивился Клещ.
— На морде твоей поганой написано. Бонапартия извести решил, верно?
— Угадала, ведьма… — Клещ только развел руками. — Али кто из моих дружков довел?
— Да ты никому из них ничего не сказывал, — скривилась Марфа. — Ну а меня-то не обманешь. Я ведунья, мне несказанные мысли знать положено. А здоровьем ты и впрямь не богат. Глянь-ка в глаза мне… Прямо гляди, не моргай!
Клещ с робостью посмотрел в зрачки Марфы и почуял, как мурашки забегали по спине. Сила древняя, языческих времен еще быть может, исходила со дна этих глаз. Такая сила, что нутро прощупывала, кости считала, кровь по капельке перебирала.
— Руку дай! — потребовала Марфа, и Клещ подчинился. Марфа, неотрывно глядя в глаза старику, сильными быстрыми пальцами ощупала кисть его руки, ладонь, запястье. Потом поднесла Клещеву ладонь к лучине, поглядела на свет, отпустила и вздохнула.
— Не могу я тебе, старый, прошлое снадобье давать, — сказала она, — не сдюжаешь ты. Господа не обманешь. Сколь даст, столько и возьмет. Опять же ты меры не знаешь. Говорила ведь тебе, чтоб чрез меры не пил? А ты пил, да не единожды. Табак нюхал? Нюхал! Да и курил, должно. Небось и до гулящих девок добирался, хрыч старый.
— Грешен, матушка, — кивнул Клещ, — так ведь зелье твое уж больно добро все поставило. И ломота прошла, и силы прибыло, и в груди сухота прошла, да и сердце не больно тюкало…
— То-то и беда, — вздохнула Марфа, — коли ты б, как я говорила, винище не хлестал, табачищу не нюхал да силу на паскудниц не переводил, так и сейчас бы еще здоров был. Снадобье мое на месяц здоровым делает. Ежели живешь праведно, не грешишь, так оно год жизни прибавит. А коли ты его силу на грех перевел, так оно тебе лет пять жизни отберет. Год ты его пил да грешил. Вот и разумей, что двенадцать лишних лет прожил. А ежели еще и не постился, так и все двадцать, не менее.
— Ну, может, и еще годок протяну? — с надеждой спросил Клещ.
— Да нет, родимый, навряд ли. Второй-то раз оно уж больно много сил дает, а после втрое забирает. Жилы твои старые, лопнуть могут, в нутре кровью изойдешь.
— Ну, и на сколько дней-то оно силы даст? — азартно спросил Клещ.
— Да дня на три, не более… В бога бы верил, так, помолясь, глядишь, выдержал бы. В спокойствии, в святости, в молитве. А ты на человекоубийство силу просишь, стало быть, опять на грех. Суетишься, богохульствуешь, в гордыне неумеренной…
— Да ведь я не на православную душу руку поднимаю, — проворчал Клещ, — на губителя и супостата иду.
— Все одно — грех. Не ты ему жизнь давал — не тебе и брать. Душегубства бог не прощает. А на тебе и без того крови много. Падет она на голову твою. Дам тебе снадобье — грех на душу возьму.
— Ладно, — сказал Клещ, поежившись, — не каркай, ворона. Мои грехи на мне, а твои я себе тоже заберу. Чай, у тебя их тоже полно.
— Грешна, — кивнула Марфа, — сильны бесы. Но сила моя — чистая. Врага не допускаю. Бог милостив, он не оставит.
— Ну, коли так — прощай! — вздохнул Клещ и приподнялся, с трудом разгибая загудевшую спину. — Не желаешь помочь — так пойду, как есть. Коли бог есть — поможет, а коли нет — сам справлюсь…
Клещ скрежетнул зубами, матернулся, но выпрямился и шагнул к двери.
— Постой… — совсем иным голосом проговорила Марфа. — Куда ты поперся? Стоишь еле-еле.
— Дашь зелье? — сгребая Марфу обеими ручищами, спросил Клещ.
— Нельзя тебе, — простонала ведунья, обвисая у него на руках, — помрешь ведь! Выгоришь с нутра и помрешь! Жилы лопнут…
— Знаю уже! — буркнул Клещ. — На хрена дареного мне жизнь?! Чтоб по стенке ходить да кряхтеть до ста лет? Небо коптить да в штаны делать? Нет уж, мне бы сказали: «Помри завтра, но день тебе на гульбу!» — согласился бы!
— Ладно, дам я тебе снадобье. Помрешь сразу — так похороню, как бог завещал.
— И на том спасибо, — помрачнел Клещ.
Марфа, подобрав подол, встала на лавку и, покопавшись на полках, добыла откуда-то маленький стеклянный штофик с мутной буроватой жидкостью. Налила до краев серебряную стопку, перекрестила трижды, трижды плюнула через левое плечо и подала Клещу:
— С богом и перекрестясь!
Клещ взял стопку левой, перекрестился и единым духом вылил содержимое себе в глотку. Горечь и жжение заставили его крякнуть, но уже спустя секунду Клещ успокоился.
— Живой… — пробормотал он. — Не враз помру, значит.
Тяжелая, дребезжащая на ухабах фура, запряженная парой пегих битюгов, вкатила во двор брошенного хозяевами московского дома.
Ворота были уже кем-то сорваны с петель, гипсовой статуе Вакха прикладом отбили голову.
В бассейне маленького фонтанчика, который хозяева перед отъездом осушили, благоухала здоровенная лужа мочи — оправился целый взвод.
Невысокий бородач в широких, подшитых кожей штанах, черной рубахе и суконной жилетке, перешитой из старого солдатского мундира, осадил лошадей и спрыгнул с козел. Сняв широкополую шляпу, он досадливо хлопнул ею о штаны.
— Порка мадонна! Не будь я Сандро Палабретти, если и здесь уже не побывали.
— Все равно, посмотреть надо, — из недр фуры выбралась тощая и высокая женщина, вместо жакета на ней был офицерский мундир со споротыми эполетами, во многих местах штопанный и латанный. Короткая суконная юбка едва прикрывала колени, а на ногах были запыленные кавалерийские сапожки. Больше всего в глаза бросалась огненно-рыжая растрепанная шевелюра, похоже, никогда не знавшая гребня и завитая, что называется, «мелким бесом».