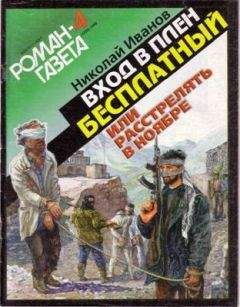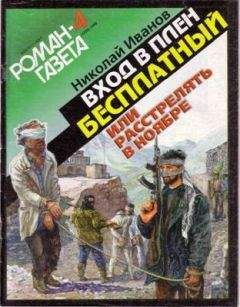Впрочем, что мне с того? Они сами заказали подобную мелодию…
С трассы вновь засигналили.
– Живо, – меня схватили за рукав и бегом потащили вперед. – Давай шевелись, твоя жизнь зависит от тебя.
Бегу, спотыкаюсь. Засовывают в очередную машину, которая сразу же набирает скорость. Окна почему-то открыты, ветер свистит по салону. Минут через двадцать – остановка. Меня выводят, но на этот раз спокойно. Останавливают. Чего-то выжидают. Срывают маску.
Ночь. Перекресток полевой дороги. Передо мной толпа женщин, парень на костылях. Напротив, с автоматами на изготовку, отряд Непримиримого. И он сам, усмехающийся. А где мафиози? И почему столько народа? Обманули? Все-таки сдают на растерзание селу, в котором погибли боевики?
Сбоку кто-то надвигается. Мафиози? Я готов радоваться и ему, кем бы ни оказался. Он в свитере, в руках замечаю зажатую гранату. Почему-то обнимает меня. Слышу шепот:
– Как имя-отчество Алмазова?
Называю, даже несмотря на неожиданность, сразу. Пугаюсь уже потом: а вдруг перепутал? И при чем здесь Алмазов? Может, это наши сработали под мафию?
– Ты – Иванов?
– Да.
– С возвращением. Поздравляю.
Снова обнимает.
– А вы… кто?
– Расходчиков. Из физзашиты.
Наши? Обмякаю в сильных объятиях. Так не умирают и не рождаются. Меня вытащили? Я буду жить?
Из рассказа полковника налоговой полиции Е.Расходчикова:
В том человеке, которого вывели из машины, тебя узнать было невозможно. Худой, заросший, в обмотках. Фотографии твои имелись у каждого оперативника, но то, что увидели…
– Ну что, полковник. Я тебя взял, я тебя и возвращаю, – подходит с вскинутым к плечу автоматом Непримиримый. – Авось когда-нибудь свидимся. Даст Аллах – не на войне.
– Помоги Махмуду и Борису. В подвале очень сыро.
– Попробую, – обещает, но без гарантии, боевик. Знать, сам не всегда волен делать то, что хочется. Ох, ребята, нет полной свободы в этом мире. И не будет. И пули ваши под красивые лозунги независимости и имя Аллаха не всегда были праведны. А уж деньги, полученные за страдания другого человека, не добавят вам ни счастья, ни благородства…
Непримиримый неожиданно протягивает руку. Ту, которая держала «красавчика» при моем пленении. Которая сжималась в кулак, чтобы больнее ударить. Которая, в принципе, и затолкала меня почти на четыре месяца в подземелье.
Демонстративно не заметить ее или все-таки пожать? Вокруг суматоха «стрелки», хлопают дверцы машин, отдаются команды. Через миг мы разъедемся в разные стороны, удерживая друг друга под прицелом. Интересно: а повернись фортуна и окажись я властителем судеб своих тюремщиков, что бы сделал?
Не знаю. Твердо убежден лишь в том, что никогда не посадил бы человека в яму. И не поднял бы оружия, чтобы расстрелять. Может, даже простил бы.
Прощу ли?
Рука Непримиримого все еще протянута. И это лучше, чем упертый в затылок ствол автомата.
Протягиваю свою в ответ. Как бы то ни было и что ни пришлось пережить, – за сдержавшего свое слово не пускать в расход без нужды Старшего. За Литератора, бросившего однажды в яму пакетик «Инвайта». За Хозяина, ни разу не поднявшего на нас руку и не повысившего голос. За Че Гевару. Чику, научившегося на войне не только держать в руках оружие, но и гитару. Крепыша, Боксера и даже Младшего Брата. Пусть они видели во мне лишь пленника и будущие деньги, – я в ответ сумел разглядеть в них и хорошее.
Поэтому вместо проклятий и презрения – прощение. Это тяжелее и пока через силу. Может, завтра пожалею об этом. Но Хозяин однажды радовался, что он чеченец, а не русский и не еврей. Но испокон веков русские, как никто другой, умели прощать. Что намного благороднее других человеческих качеств. Поэтому я тоже горд и счастлив, что родился русским. Ничего не забываю, но прощаю.
Ради будущего.
Хотя нет, я не прав. Моя протянутая рука – это в первую очередь страх за Бориса с Махмудом и неловкость перед ними. За то, что я на свободе, а они… Вскину гордо подбородок я – что падет на их головы? Мы слишком долго были связаны вместе и очень сильно зависим друг от друга…
Протягиваю еще и потому, что сам окончательно не верю в освобождение. Мне никто ничего толком не объяснил, и эта встреча посреди дороги может оказаться лишь «стрелкой», демонстрацией, что я жив. А после нее – опять все в разные стороны на долгие недели новых переговоров. А я уже научен: охрану раздражать – себе дороже.
Поэтому фраза «ради будущего» – это ради моего личного будущего и будущего оставшихся в неволе соподземельников. Я еще даже не снимаю топорщащийся из-под костюма корсет: выброшу, а как потом стану греться, где возьму новый? Не трогаю и обмоток, путающихся меж ног. И, наверное, все‑таки прав Махмуд насчет моего хватательного рефлекса: если на происходящее смотрю с неверием, то на серый шерстяной свитер Расходчикова – с вожделением. Если нас все же станут развозить в разные стороны, надо будет успеть попросить у него одежду. А он в Москве возьмет мою…
Слышу гортанную команду – мгновенно реагирую только на нее. Боевики, пятясь, не спуская глаз и автоматов с толпы, отходят к машинам, хлопают дверцами и исчезают в пыли и темноте. На какое-то мгновение остаюсь совершенно один – можно тоже бежать в темноту и скрыться. Плохо, туфли разносились, спадают с ног. Придется бежать босиком…
– Все, теперь домой, – останавливает попытку вынырнувший сбоку Расходчиков.
А гарантия есть ехать домой? Он все предусмотрел? Рядом с ним всего двое русских, их лица знакомы – значит, из налоговой полиции. Но три человека – это так мало, это практически ничто во враждебной Чечне.
– Домой, домой, – загалдели чеченцы. Впервые усаживают в машину без повязки на глазах. Впервые не упирается под ребра ствол «красавчика». Но все равно пока ни во что не стану верить! Сто тринадцать дней ничего не происходило, а тут – нате вам? С чего бы это?
И в то же время как сладостно-томительно не верить в хорошее, когда в подсознании стучит: «Верь, верь, верь».
Мы сдавлены в «Жигулях», веревки корсета больно врезались в грудь. Потихоньку сначала ослабляю узлы, а затем развязываю их полностью. Стараюсь побыстрее и побольше надышаться – то ли свежим воздухом, то ли свободой.
Быстро въезжаем в село с редкими огоньками. Машина натужно вытягивает себя на пригорок, где нас ожидает еще большая толпа. Жители замахали руками, возбужденно заговорили. Радуются? Еще остались чеченцы, которые радуются моему освобождению? Как мне теперь к ним относиться?
А первое, что делают мои трое русских спасителей, – обнимаются сами. Значит, интуиция не подвела меня и встреча на ночном перекрестке висела на волоске?
– В дом, – приглашает сухощавый старик. – Все в мой дом. Сегодня у нас праздник.
Чистая постель, сухо, тепло, я вымыт и переодет – а не спится. Изворачиваюсь, перекомкав подушку и простыню, усаживаюсь на тахте падишахом.
У ног, на полу, по-солдатски одинаково повернувшись на правый бок, спят мои спасители. Под окном, начинающим сереть от рассвета, иногда слышны осторожные шаги. Это Муса, мой крестник, столь удачно подыгравший под мафиози. Как только Саша Щукин поставил свою подпись под документом о его освобождении, Муса исчез в доме и вернулся с пулеметом на плече.
– Спите спокойно, он с друзьями будет вас охранять, – пояснил его отец, глядя на сына и все еще не веря в его освобождение.
Но лично мне не спится. Не то что боюсь проспать отъезд или не доверяю Мусе. В глазах стоят укутавшиеся в сырые одеяла Борис и Махмуд. В яме. Могу представить, как тяжело им перенести мой отъезд. Скажут ли им, что я на свободе? Или исчез – и исчез?
Где-то в глубине души я все время боялся остаться в плену в одиночестве. Даже сейчас, сидя на тахте, предполагаю, что бы делал в таком случае. Конечно, соорудил бы из освободившихся одеял шалаш или вагонное купе – не терять ни одной доли тепла. Подмел бы прутиком, найденным за банками, весь подвал – это могло занять уйму времени! Следом идет протирка от пыли и влаги подвальных банок, их аккуратная перестановка. Можно сделать зарядку – на коленях, правда, но не привыкать. Таким образом я бы убил целый день одиночества. Но сколько их могло ждать впереди?
Передергиваюсь от озноба. Не верю. Да, я не сплю потому, что не верю в освобождение. Усну – а проснусь снова в яме. Второго раза не выдержу. Лучше оставаться в том, первом плену…
– Чего не спишь?
Женя Расходчиков, словно почувствовав мой взгляд, поднимает голову.
– Не знаю. Не спится.
Он ползет к тахте, усаживается рядом.
– Все нормально, все позади, – прекрасно понимает он мое состояние. – Утром выскочим отсюда, а дальше – свои. Руководство, черт побери, жалко. Уже сутки не даем о себе знать. Представляешь, с какой ненавистью и одновременно с надеждой глядят в Москве на телефоны?
Вчера вечером гадали: вырываться из района ночью или все же дожидаться утра.